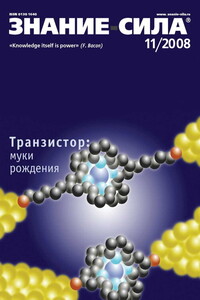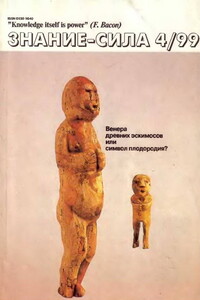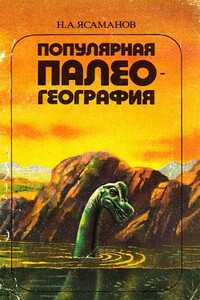Пока мы работали с этими материалами, наш профессор, заведующий каталогами Бэнкрофтской библиотеки Рэндал Брандт, потакал нашей болтовне. Мы делились пожеланиями – тем, какие книги хотели бы иметь в своих учреждениях (я же говорила – рай для ботаника). Я была там единственным медицинским библиотекарем, так что «Келмскоттский Чосер»[9], каким бы прекрасным он ни был, просто не вписывался в мою версию удачного приобретения. Мои мысли возвращались к тем странным маленьким закрытым книжкам в кожаном переплете, с которыми я столкнулась в Музее Мюттера. Учитывая их своеобразную родословную, они могли бы стать запоминающимся реквизитом при обучении студентов-медиков: это отличный образец истории и этики, лежащий в основе их профессии. С трепетом и страхом быть непонятой нашей маленькой группой я упомянула именно эти книги. Повисла гнетущая тишина, Брандт оторвался от работы и задумчиво произнес: «Я думаю, что у нас есть одна такая книга».
Профессора можно простить за его неуверенность. Пятиэтажное здание Бэнкрофтской библиотеки, заполненное преимущественно специальными коллекциями, включает в себя залы Марка Твена (главного хранилища тысяч произведений знаменитого американского юмориста и трудов о нем) и целый центр, посвященный крупнейшей коллекции папирусов в Соединенных Штатах. На экскурсиях ряды стопок редких книг кажутся бесконечными.
Листы – больше похожие на лоскуты ткани, чем на древесную массу, – издавали восхитительный звук, когда мы переворачивали их, как паруса лодки, натянутые ветром.
Из-за не совсем законной парковки и последующей буксировки я опоздала на занятия следующим утром. Я ворвалась в аудиторию, потная и смущенная. Было очень трудно пробраться незамеченной в тихую комнату, где было всего с десяток человек. Книги стояли на подставках, и студенты уже работали. На моем месте лежала карманная книжка в довольно современной обложке из черной кожи. Только намек на патину на богато украшенных серебряных застежках говорил о возрасте книги.
Брандт жестом указал на том, который я взяла в руки. «Я нашел для вас эту книгу», – сказал он.
«В моих руках настоящая книга из человеческой кожи, – подумала я. – Не волнуйся! Не волнуйся!» Забавно, что в скором будущем я привыкну к этому ощущению.
Я смотрела на «Церковное богослужение Франсуа» (L’office de l’église en François), маленький молитвенник на латинском и французском языках. Страницы выглядели изрядно потрепанными, но переплет был совсем не изношенным, что означало, что он был сделан через некоторое время после того, как книгу напечатали в 1671 году. Внутри были две надписи, карандашом по-английски. Первая надпись гласила: «Переплетено в человеческую кожу». Вторая: «Известно, что во время ужасов Великой французской революции в различных частях Франции были созданы кожевенные заводы, где дубили кожу казненных на гильотине и некоторые образцы использовались для переплета книг из-за мелкозернистой поверхности, которая получалась после выделки. Это одна из таких книг».
Я была сбита с толку. В то время я все еще пребывала под впечатлением, что только горстка врачей XIX века создала эти жуткие предметы и что подобные артефакты хранились лишь в Колледже врачей Филадельфии. Сейчас я держала в руках еще один образец, но из совершенно другой эпохи и страны, и этот переплет якобы был сделан по политическим причинам. Я мысленно представила себе священника или аристократа, которому принадлежала эта книга, сделанная из кожи санкюлота[10]. Была ли она переплетена в человеческую кожу, возможно, ее прежнего владельца, которого считали врагом государства? Если так, то это был самый нечестивый предмет, с которым я когда-либо сталкивалась. Как новичок-библиотекарь, очарованный магической телесностью предметов старины, я попалась на крючок. Я пришла к выводу, что этот том был далеко не единственной книгой времен Великой французской революции – эпохи жутких обвинений и казней.
Наряду с невероятными, но правдивыми рассказами о массовых смертях и разрушениях Великой французской революции ложь распространялась, словно огонь факелов, зажженных толпой в деревнях. Все, что было известно при монархии, подвергалось сомнению и уничтожалось. Не только социальные структуры ремесленных гильдий, университетов и аристократии были лишены власти, но и их тела были выпотрошены и подвергнуты поруганию.
На холме, возвышающемся над Парижем с юго-запада, стоит замок Медон (когда-то великолепный охотничий домик Людовика XV и Людовика XVI после него), который был разграблен новым режимом и использовался в революционных целях. Природа этих новых задач была спорной на протяжении веков. По мере того как тел казненных во Франции становилось все больше, распространялись слухи о республиканских генералах, которые щеголяли в кюлотах[11] из человеческой кожи, отправляясь в бой, или устраивали на кладбище бал, где гостям дарили экземпляры «Прав человека»[12] (The Rights of Man) в антроподермическом переплете. Если бы революционеры действительно хотели создать огромное количество подобных предметов, ремесленники-кожевники не справились бы с этой задачей. Нужно было что-то более похожее на фабрику, чтобы удовлетворить их требования. К счастью для них, в стране началась индустриализация. Такая фабрика якобы располагалась в замке Медон.