Текст как текст - [5]
В этом дворце как-то получалось, что недоступное разуму богатство не подавляло роскошью, а поражало жизнью, интимностью пространства, точным ощущением живого человека, здесь ходившего и дворец собою населявшего. С подавленным ностальгическим вздохом расслышал я в соседнем зале шарканье шитых туфель моего прапрапрадедушки, которого, признаться, я не по праву себе приписывал… Не знаю, с чего это меня так перекосило именно в Архангельском от японцев, которые так много и так вежливо улыбались, что не хотелось верить, что они способны почувствовать хоть что-нибудь из того, что обязан почувствовать здесь каждый русский человек, а может, злясь на их недоступную фототехнику, которой они непрерывно вспыхивали и стрекотали, запечатлеваясь, а может… Только с чего я взял, что я испепелюсь от зрелища их императорского дворца или сумею испытать их чувства от японского садика или вазы, которых здесь, в нашем дворце, было предостаточно и которые они (с каким чувством…) трогали своим японским пальцем… с чего это я взял, что способен? потому ли, что собрался к ним и, по этой именно причине, что сам буду вскоре их гостем, сопровождал своих японских гостей по месту, которое, кстати сказать, и сам-то впервые в жизни видел, как впервые видели его и они… с чего это я взял, что именно я – настоящий русский, когда особенно возмутился живому хихиканью за спиной, а обернувшись, застал своего кинорежиссера (не менее меня русского, из северной деревни родом…), в ту же Японию со мною намеревавшегося, то есть в Архангельском оказавшегося никак не по менее святой причине… я застал их, японца и русского, любознательно удовлетворявших свои филологические потребности в радостной попытке нахождения общего языка: они тыкали в мраморные частицы тела амурчика, японец называл их по-русски, а наш режиссер, по-видимому, по-японски; они повторяли эти столь непохожие по звучанию на родные слова и смеялись с истинно детской веселостью, окончательно забыв про пенаты, про памятник культуры и т. п. Я тогда чудовищно возмутился, сейчас думаю: славные ребята, по существу… лучше, чем воевать… славные ребята!..
.................................................................................
Нет, никогда я не поеду в Михайловское! Не хочу видеть дуб, вокруг которого ходил кот, и прялку Арины Родионовны – не хочу. Не хочу в недействующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения… Приблизительно это сказал мне монах, которого подвозил я из деревни Небылое, что во Владимирской области. Едем мы, мчимся. «Инспектор!» – предупредил меня внимательный батюшка. Машина приседает со ста двадцати до шестидесяти прямо под носом засевшего в кустах гаишника, и успеваю я, тормозя, прочесть неправдоподобную своей внезапностью вывеску села Болдино. Отчего же так прыгнуло сердце? От боязни компостера в правах? от чудовищной той его осени?.. И гаишник не остановил почему-то, и я не остановился. Понял я это, лишь пересекая, как финиш, противоположную границу, прочитав слово «Болдино» в зеркале заднего вида… Нет, не мог я здесь остановиться! И я не остановился. Какими глазами смотрел я на пролетавший, улетавший от меня пейзаж. Какие проплывали, те же самые, что и над ним, облака! Знал бы я, что другое Болдино это было, другой области, однофамильное село… И пронесся я, минуя, как однофамилец самому себе. Так и гримируюсь под Гамлета, а пора бы уже репетировать Лира. И только мы миновали пост ГАИ, только мой друг изо всех сил тормознул перед ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы и оказались там, куда ехали, в Сагурамо мы и оказались. Представления невиданного тут же распались, чтобы все обернулось той самой стороной и условием счастья, когда ты – не предполагал. Экскурсий никаких не было, мы были первые и одни; не было и никакой преувеличенной надстройки над святыней; не осталось ни сестры, ни вдовы… Все здесь было вполне нормально, недоразвалившись и непереобновившись, в той норме, когда можно бы и продолжать жить, как жили… Для нас одних выбегали навстречу дворняги, неожиданно, для такой удаленности, породистые; от нас одних отвернулся в маленьком прудике черный лебедь; для нас одних оторвали от свежей непочатой тетрадки входные билеты… Билетерша же, конечно, была не одна: несколько женщин сидели уютным и праздным кружком на музейном крыльце, оживляя его. Кто они были? сотрудницы, родственницы, а может, и то и другое… Одна из собеседниц крутила в руках кофейную чашечку, явно прервавшись на полуслове, другая все еще не потеряла той заинтересованности к своей судьбе, которая бывает на лице каждого, кому гадают, и еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на столе билетерши… И мы прошли.
Там было тихо, чисто, по-крестьянски был как-то не то намыт, не то неровен пол, плетеные же, деревенские, лоскутные половички… Уютно было, будто мы собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки дальше поехать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал-ждал и отлучился, буквально перед нашим приходом, и, как всегда, мне здесь, приезжему, неясно: хозяин? он что, сейчас будет или через неделю? – другая жизнь у времени здесь… Память о великом человеке не прервала тут жизни здесь живущих. И вот еще от чего мне стало хорошо: трепета у меня не было перед великим Ильей; у друга, наверно, был, а я был не обязан. То есть я относился к нему и с искренним, и с подобающим почтением, но и только. Не стояла для меня за ним судьба моего народа. И слава богу. Отдохнем и от этого. Все здесь располагало к отдыху некой тенистостью в принципе, не только под деревом она бывает… Да и человек хороший. Вот то, что хозяин наш Илья – человек хороший, мне было очевидно ясно и без страстных пояснений моего друга. Быт человека не врет.
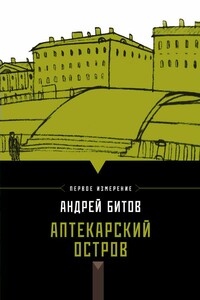
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
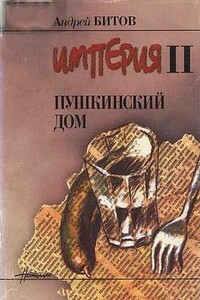
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
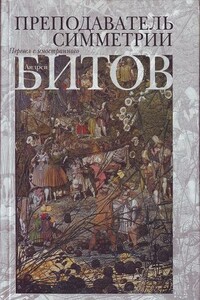
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.