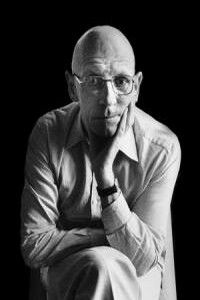Театр ситуаций, 2008 - [3]
В антракте – номера иллюзионистов и клоунов
Разумеется, наше описание ситуации, с пустой сценой и танатопрактиками разума, отвечало смысловым, сущностным измерениям – меж тем как в измерениях эмпирических кипит жизнь, и философская сцена – какое там пуста! на сцене не протолкнуться. Однако если взглянуть пристальней на эту жизнь, у нас появится опасение, что антракту суждено продлиться навеки, и помимо этого вечного антракта никогда уже ничего не возникнет. Ибо кипучая философская жизнь ныне, увы, глубоко не творческого, скорее – анти-творческого характера.
Основное ее содержание двояко. Во-первых, отлично развита и процветает институционализация философии. Философия как социальный институт успешно заботится о себе, расширенно воспроизводит себя, как выражались марксисты, и делать это умеет. Я, впрочем, не специалист в этих материях; тут у меня не столько анализ, сколько примеры из жизни. Примеры российские и мировые в моем скромном опыте выглядят по-разному, но суть имеют одну. Вот – Всемирный философский конгресс в Стамбуле. Огромен и представителен. Готовится тщательно, установка – объять всю панораму, весь философский небосвод, ничего существенного не упустить. Но при всем том – ничего существенного видно не было. Во всем гомерическом говорении не удавалось уловить что-либо принадлежащее не к антракту, а к самому действию философской драмы, позволяющее надеяться на конец антракта. Зато шла бурно институционализация, притом на двух уровнях – у господ и у простых. На верхнем этаже лидеры любомудрия решали задачи руководства сообществом; на нижнем – тысячи любомудров решали задачу своей индивидуальной институционализации: отметиться, вписаться в сообщество. К тому, чтоб вписаться, никаких критериев качества, уровня, существенности философствования не предъявлялось (в эпоху политкорректности их не положено) – и потому событие развернулось в великий съезд и праздник мелких, но шустрых, всемирный парад рьяных инвалидов мысли. Пример отечественный. Я приезжаю читать курс в губернском городе С.; и после первой лекции, за чаем, мне сообщают: в С. за последнее время стало 45 докторов философских наук (дело было лет 5 назад, сейчас их, возможно, уж 90). Вспоминаю, что в требованиях к докторской диссертации стоит: она должна «открывать новое научное направление» – т.е. то, чего в ситуации антракта, как мы выше сказали, вообще практически не имеется. И заключаю, что понять феномен города С., в одночасье открывшего больше «новых направлений», чем вся Древняя Греция, можно лишь исключительно в стамбульском смысле – как феномен не философии, а только институционализации философии, которая, как тень у Гофмана, оторвалась от своего предмета.
Тут могут сказать: а что в том дурного? Разве сообщество не должно уметь поставить себя, утвердиться в социуме достойным образом? Должно; и эти задачи и не надо смешивать с задачами творческого порядка, они – другие, отдельные. – С этим можно не спорить, однако гипертрофия институционализации весьма сказывается и на внутренней жизни философии. Мы уж заметили, что сегодняшняя институционализация сопряжена – в общем духе эпохи – с крайним снижением, если не снятием критериев творческого уровня и качества. И это – настоящая опасность! Это ведет не просто к гала-парадам, а к засилью мелких, но шустрых, к диктатуре когорт «докторов философских наук». Появление других, не таких, тех, кто может напомнить, чтó есть философия на самом деле, – угрожает их благоденствию, и они просто вынуждены этих «других» отталкивать, устранять, давить – делать так, чтобы антракт, открывший им доступ на авансцену, никогда бы не кончился.
Кроме институциональной, весьма активна и еще одна сфера – сфера пиара и сенсаций, рекламы и саморекламы, философского, так сказать, гламура. Она с первой связана, но все же и отличается от нее, здесь играют по другим правилам. Занимаются здесь тем же, чем в любых видах гламура: создают моду, демонстрируют ее звезд и принцесс, а в данном случае – демонстрируют с помпой самое новое! самое смелое! самое знаменитое! в мировой мыслильне. Современный человек приучен уже, что такая сфера непременна везде, и дело идет успешно. Фигуры и события, пригодные для занятия первых страниц, продуцируются и продаются бесперебойно; и если гламур делается качественно, их совершенно не отличишь от настоящих. Россия заметно здесь отстает, ибо у нас, как известно, вообще отставание в области гламура.
Так нынче философия обозначает себя.
И если бы было только это, пришлось бы действительно заключить, что антракт, вернее всего, – навечно.
Пытаясь заглянуть за сцену
Здешнее бытие – род смешанный, из бытия и небытия, в нем не бывает чистых форм. Пустота, обрыв дела философии, тоже не могут быть чисты, абсолютны. Описанные «антрактные» формы – да, доминируют; но рядом с ними есть и зерна существенного, ростки продуктивных практик самопознающего разума. Порою они даже не рядом, а внутри этих форм. Скажем, в мирке философского гламура действуют, по определению, симулякры, настоящей сути не требуется; а тем не менее, в явлениях из этого мирка – к примеру, в теориях Б.Гройса о рыночной природе искусства, философии и всего на свете – можно вдруг встретить серьезную (хоть в некой мере) основу, усилие мысли, выстраивающей себя… Это присутствие мысли, не требуемое условиями игры, – обнадеживает, дает впечатление неистребимости аутентичного философствования. А кроме того – эти разрозненные ростки и зерна позволяют строить гипотезы, рабочие предположения о характере созревающего за сценой перерождения.

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.
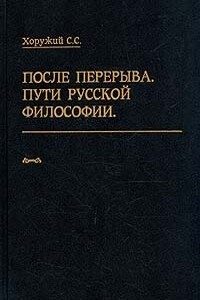
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединстваИсточник: http://www.synergia-isa.ru.

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".
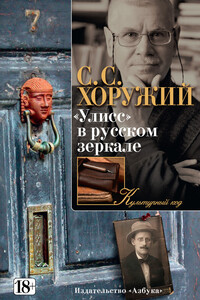
Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса.
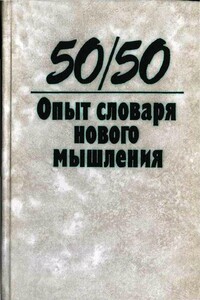
Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.
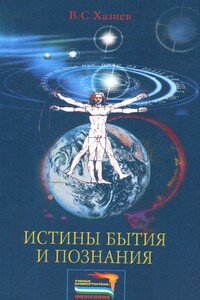
Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.

Агранович С.З., Саморукова И.В. ДВОЙНИЧЕСТВО Чаще всего о двойничестве говорят применительно к системе персонажей. В литературе нового времени двойников находят у многих авторов, особенно в романтический и постромантический периоды, но нигде, во всяком случае в известной нам литературе, мы не нашли определения и объяснения этого явления художественной реальности.
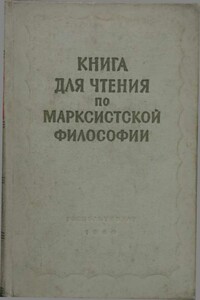
Предлагаемая вниманию читателей «Книга для чтения по марксистской философии» имеет задачей просто и доходчиво рассказать о некоторых важнейших вопросах диалектического и исторического материализма. В ее основу положены получившие положительную оценку читателей брошюры по философии из серии «Популярная библиотечка по марксизму-ленинизму», соответствующим образом переработанные и дополненные. В процессе обработки этих брошюр не ставилась задача полностью устранить повторения в различных статьях. Редакция стремилась сохранить самостоятельное значение отдельных статей, чтобы каждая из них могла быть прочитана и понята независимо от других.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.