Те, что от дьявола - [63]
Меня нисколько не удивил рассказ Мармора. Так уж устроены мужчины — без всяких дурных намерений, без самоубийственных мыслей они любят держать у себя яд, как любят иметь оружие. Они собирают вокруг себя орудия уничтожения, как скупцы собирают богатства. «А вдруг я захочу кого-нибудь убить», — говорят они, как сказали бы: «А вдруг я захочу доставить себе удовольствие!» Впрочем, все это не более чем ребячество. И я сам, тогда еще совсем ребенок, нашел вполне естественным, что у приехавшего из Индии Мармора де Каркоэла есть и такая редкость, как удивительный яд, и что на дне его офицерского чемодана среди кривых кинжалов и стрел хранится еще и флакончик из черного камня, хорошенькая, несущая смерть безделушка, которую он мне только что показал. Повертев в руках гладкий, как агат, флакончик, который, вполне возможно, носила между топазовых круглящихся грудей какая-нибудь индийская красавица, насыщая его пористую поверхность своим золотистым потом, я положил его в вазу, стоявшую на камине, и забыл о нем думать.
Но поверите ли?! Именно в тот миг я вспомнил о каменном флакончике. Страдальческое лицо Эрминии, бледность, кашель, рвущийся, казалось, из уже размягчившихся губчатых легких, где, вполне возможно, укоренились и ядовитые очаги, которые врачи называют на своем пугающе образном языке кавернами, не так ли, доктор? — Тот согласно кивнул. — Кольцо, по необъяснимой случайности вспыхнувшее таким странным светом именно в тот миг, когда девушка закашлялась, походило на вспышку радости убийцы. Утреннее происшествие в комнате Мармора, напрочь стершееся из памяти, вдруг воскресло — и вихрь мыслей закружился в моем мозгу. Нити, что связала бы давнее утро с теперешним вечером, у меня не было. Два события соединились совершенно случайно, и я испугался нечаянной мысли. Постарался погасить в себе свет ложного озарения, вспышку, которая вдруг сверкнула у меня в душе, как сверкнул бриллиант на зеленом сукне стола!.. Ища поддержки, изо всех сил стремясь прогнать безумную и преступную мысль, на миг завладевшую мной, я обратил взгляд на де Каркоэла и госпожу дю Трамбле.
Лица, манера поведения как одного, так и другой показали мне, что мысль, которую я осмелился допустить до себя, невозможна. Мармор вел себя как свойственно Мармору — продолжал смотреть на бубновую даму, и смотрел на нее так, словно она была последней и окончательной любовью его жизни. Лицо госпожи дю Трамбле, ее тонкие губы и взгляд дышали тем безмятежным спокойствием, какое не покидало ее даже тогда, когда она посылала свои язвительные шутки, похожие на смертельные пули; шутка — единственное оружие, убивающее бесстрастно, потому что даже шпаге передается страсть движущей ее руки. Она и он, он и она сидели друг напротив друга, две неисповедимые стихии: одна, де Каркоэл, — темная и мрачная, словно ночь, другая, бледная графиня дю Трамбле, — светлое непостижимое пространство. Она продолжала смотреть на своего визави равнодушным безучастным взором, излучавшим холодное безличное сияние. Шевалье де Тарси никак не мог налюбоваться на кольцо, в тайну которого и я хотел бы проникнуть, графиня отцепила привязанный к ее поясу букет резеды и, погрузив в него лицо, с таким наслаждением вдыхала аромат цветов, какого трудно ожидать от женщины, мало расположенной к сладострастию и мечтательности. Глаза ее закатились, а потом и вовсе закрылись, казалось, она находилась на грани обморока; узкими бесцветными губами графиня захватила несколько душистых стебельков и, открыв свои глубоко посаженные глаза, не сводя их с де Каркоэла, разжевала стебельки с выражением дикаря-идолопоклонника, поглощающего жертвенную пищу. Были ли разжеванные и проглоченные цветы условным знаком, соглашением между сообщниками, в которых превратились любовники? Если говорить откровенно, я решил именно так. Наконец шевалье налюбовался бриллиантом, и графиня спокойно надела кольцо на палец. Игра в вист возобновилась, сосредоточенная, молчаливая, угрюмая, как будто и не прерывалась.
Рассказчик замолчал. Он не торопился. Зацепил и крепко держал. Быть может, главное достоинство его манеры рассказывать состояло в умении заинтриговывать?.. Как только он умолк, в тишине гостиной стало слышно взволнованное дыхание слушателей. Я оглядел их из-за своего алебастрового заграждения — плеча графини Даналья: самые разные чувства запечатлелись на лицах. Первой я невольно стал отыскивать Сибиллу, маленькую дикарку, испугавшуюся, едва только начался рассказ. Мне хотелось полюбоваться бликами ужаса в ее черных глазах, напоминающих сумрачные воды канала Орфано[91] в Венеции, потому что в их кромешной темноте утонет немало сердец. Но она уже не сидела на канапе возле матери — заботливая баронесса, обеспокоенная продолжением рассказа, без сомнения, подала дочери знак покинуть гостиную, и та тихонько исчезла.
— В конце концов, — снова заговорил рассказчик, — что уж было такого особенного в этой сцене, но она меня взволновала и запечатлелась у меня в памяти, будто врезанная резцом. Время не стерло в ней ни единой черточки. Я до сих пор вижу лицо Мармора, застывшее спокойствие графини, на миг растворившееся в сладострастном вдыхании запаха резеды, которую она потом, разжевав, уничтожила. Все осталось у меня в памяти, и вы поймете почему. События, таящие в себе возможное и немыслимое, связь между которыми я не мог хорошенько понять, но смутно интуитивно чувствовал, коря себя за крамольные мысли, со временем высветились, и я избавился от мучившего меня хаоса.
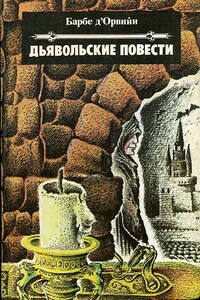
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».
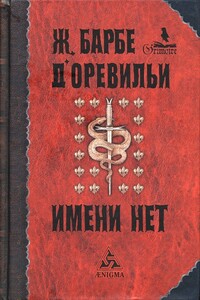
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.
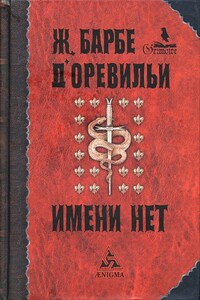
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
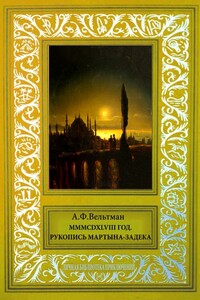
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
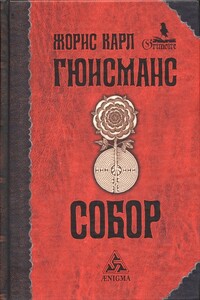
«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009)
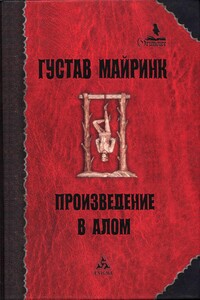
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.
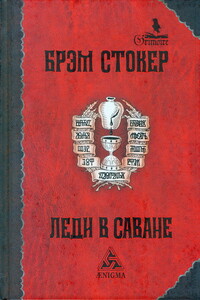
Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.