Тайфун - [2]
Он почувствовал ветер от винта, когда вертолет прошел над гривой, набирая высоту. Неподвижный снег — плохой фон для маскировки. Вот если действительно нагрянет «Мария», тогда-то будет самое время для диверсантов…
«Мария», «Мария»… Сейчас, в холодной снежной норе, ему, закоченелому, стало чуточку неловко за свою сегодняшнюю растерянность, когда перед вылетом на задание майор Филин, инструктируя группу, неожиданно сообщил: «Между прочим, идет «Мария», и уже где-то близко… Не боитесь, лейтенант, попасть в переделку?» Дагаев смутился под неулыбчивым совиным взглядом начальника разведки, заподозрив подвох и совершенно не понимая, для чего в такой момент — на учениях, перед трудным заданием — майор назвал девушку, с которой у Дагаева трудные отношения.
«Причем тут Мария?» — пробормотал, слегка краснея и отводя глаза.
Майор странно усмехнулся, зябко повел покатыми плечами и сдержанно сказал: «Причем, спрашиваешь?.. Ну что ж, тайфуны и бури не отменяют учений. Пусть эта самая «Мария» выходит из себя… Но дело с нею усложнится…» В странной усмешке майора Филина словно бы скользнул намек на то, что ему известно и о другой Марии, о другом вихре, сквозящем в жизни лейтенанта Дагаева.
И кто это только придумал — называть разрушительные тайфуны и ураганы красивыми женскими именами. То ли чья-то злая ирония родила эту традицию, то ли суеверное желание смягчить разъяренную стихию нежным именем? Надо же — «Мария»! Сколько теперь островов оголила, сколько судов потрепала или даже отправила на дно эта самая «Мария»? А ведь нет имени звучнее и красивее, во всяком случае, для Дагаева.
А может, какой-то неведомый моряк в минуту отчаяния на расколотом парусном бриге, выброшенном на скалы, цепляясь за оборванную снасть, прошептал, как проклятие и заклинание, как мольбу о пощаде и вечную клятву любви, имя женщины, однажды разбившей ему жизнь, подобно буре…
Торопясь сгладить смущение, показать, что не понимает намека, затаенного в усмешке майора, Дагаев сказал: «Один бывший пограничный старшина, прослуживший в здешних краях пятнадцать лет, говорил мне: «Стихии немножко похожи на женщин. В конце концов, они благосклоннее к тем, кто не бежит от них в самую злую минуту, принимает такими, какие есть, остается терпеливым и благоразумным, когда они вовсю бушуют. Нам ураган на руку, товарищ майор».
Майор опять странно усмехнулся: «Будем надеяться, с ураганом-то вы поладите».
«С ураганом-то…» Что он хотел этим сказать, на что намекал? Не будь, мол, слишком самоуверенным, лейтенант? Только ли? И эта особенная усмешка…
Вопросы пришли позже, когда сидел в кабине вертолета, а там, на взлетной площадке, в строю, надо было слушать распоряжения и советы майора Филина, ничего не пропуская, — майор не любил повторять.
«…Если буря все-таки разразится, вертолет за вами может прийти позже. Ждать на месте. Какой у вас запас продовольствия? На трое суток? Достаточно. Спички, топливо есть? Раз нет вопросов — к посадке…»
Обойдя горными распадками линию войск охранения, вертолет высадил разведчиков вблизи одного из колонных путей «противника» и ушел за второй группой, которой предстояло перехватить соседнюю дорогу к перевалу. С лейтенантом Дагаевым было десять человек. На всех — шесть гранатометов, семь автоматов, два ручных пулемета. Сегодня им предстоял открытый бой. В чистом поле на них хватило бы одного бронетранспортера или боевой машины пехоты, но в ближнем бою, в горах, возможно ночью, когда каждый гранатомет в твердых руках становится противотанковой пушкой, — а на такой бой они и рассчитывали, — группа Дагаева стоила немало; она помогала своим главным войсковым силам выйти к перевалу, чтобы выиграть сражение в горах. Даже маленькая заноза заставляет хромать большого слона. Одной из таких заноз и должна стать для «противника» группа Дагаева.
Треск чужого вертолета-разведчика давно стих где-то за хребтом, но долина по-прежнему выглядела пустынной, метель незаметно улеглась, небо немного расчистилось, словно бы к морозу. Неужто синоптики ошиблись, и циклон прошел далеко стороной?..
Мороз действительно усилился к ночи. Стужа медленно, упорно натекает под полушубок, накапливается, вползает в тело, пробивая сквозной дрожью, даже скулы сводит, и уже нет желания вскочить, пробежаться, устроить возню с разведчиками — только бы лежать неподвижно, сжимаясь в ком, пряча остатки тепла глубоко-глубоко в себе.
Разведчики, кроме Воронова, ничем не выдавали себя. Воронов же поминутно возился, высовывался из окопчика, покашливал, и Дагаев, несмотря на досаду, жалел парня, даже раскаивался в душе, что взял его на это задание. Просил же начальник клуба части оставить Воронова в лагере, помочь выпустить специальную радиопередачу и фотогазету, в чем Воронов незаменим — он и тексты мигом напишет, и куплеты сочинит, и музыку подберет, и дикция у него неподражаемая. Дагаев уже привык, что Воронов в дни учений и всяких авралов оставался при начальнике клуба «приданной силой». Солдату это, похоже, нравилось. Дагаев тоже оставался доволен: Воронов никогда не забывал прославить своих всеми средствами местной информации — от листовок до радиопередач. А тут, в начале учений, сам Воронов завел непривычный разговор:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В романе «Поле Куликово» Владимира Возовикова повествуется о борьбе русского народа во главе с великим Московским князем Дмитрием против золотоордынского ига и об исторической победе русских воинов над полчищами врага в 1380 году.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
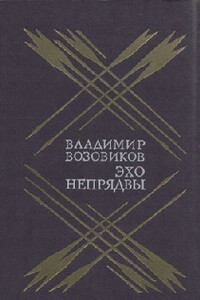
Роман Владимира Возовикова «Эхо Непрядвы» продолжает тему борьбы русского народа под руководством Москвы против золотоордынского ига, начатую автором в романе «Поле Куликово». В новой книге повествуется о стремлении молодого Московского государства во главе с Дмитрием Донским и его сподвижниками закрепить историческую Куликовскую победу, о героизме русских людей при отражении нашествия хана Тохтамыша. В романе продолжаются судьбы многих героев, знакомых читателю по предыдущей книге.
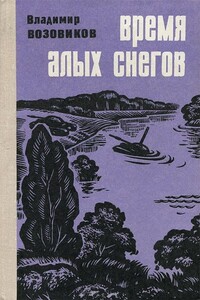
Герои повестей и рассказов, вошедших в этот сборник, наши современники — солдаты и офицеры Советской Армии. Автор показывает романтику военной службы, ее трудности, войсковую дружбу в товарищество, Со страниц сборника встают образы воинов, всегда готовых на подвиг во имя Родины.

В новую книгу писателя В. Возовикова и военного журналиста В. Крохмалюка вошли повести и рассказы о современной армии, о становлении воинов различных национальностей, их ратной доблести, верности воинскому долгу, славным боевым традициям армии и народа, риску и смелости, рождающих подвиг в дни войны и дни мира.Среди героев произведений – верные друзья и добрые наставники нынешних защитников Родины – ветераны Великой Отечественной войны артиллерист Михаил Борисов, офицер связи, выполняющий особое задание командования, Геннадий Овчаренко и другие.
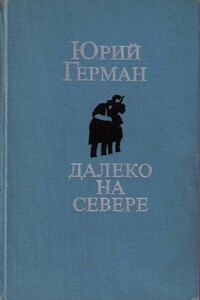
Повесть Юрия Германа, написанная им в период службы при Политическом управлении Северного флота и на Беломорской военной флотилии в качестве военкора ТАСС и Совинформбюро.
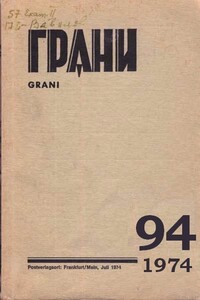
Повесть «Девочки и дамочки», — это пронзительнейшая вещь, обнаженная правда о войне.Повествование о рытье окопов в 1941 году под Москвой мобилизованными женщинами — второе прозаическое произведение писателя. Повесть была написана в октябре 1968 года, долго кочевала по разным советским журналам, в декабре 1971 года была даже набрана, но — сразу же, по неизвестным причинам, набор рассыпали.«Девочки и дамочки» впервые были напечатаны в журнале «Грани» (№ 94, 1974)

Это повесть о героизме советских врачей в годы Великой Отечественной войны.…1942 год. Война докатилась до Кавказа. Кисловодск оказался в руках гитлеровцев. Эшелоны с нашими ранеными бойцами не успели эвакуироваться. Но врачи не покинули больных. 73 дня шел бой, бой без выстрелов за спасение жизни раненых воинов. Врачам активно помогают местные жители. Эти события и положены в основу повести.
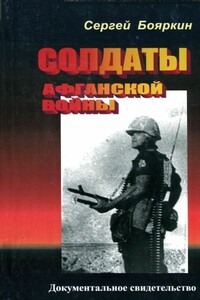
Документальное свидетельство участника ввода войск в Афганистан, воспоминания о жестоких нравах, царивших в солдатской среде воздушно-десантных войск.

Знаменитая повесть писателя, «Сержант на снегу» (Il sergente nella neve), включена в итальянскую школьную программу. Она посвящена судьбе итальянских солдат, потерпевших сокрушительное поражение в боях на территории СССР. Повесть была написана Стерном непосредственно в немецком плену, в который он попал в 1943 году. За «Сержанта на снегу» Стерн получил итальянскую литературную премию «Банкарелла», лауреатами которой в разное время были Эрнест Хемингуэй, Борис Пастернак и Умберто Эко.
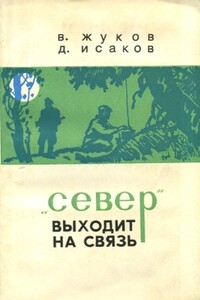
В документальной повести рассказывается об изобретателе Борисе Михалине и других создателях малогабаритной радиостанции «Север». В начале войны такая радиостанция существовала только в нашей стране. Она сыграла большую роль в передаче ценнейших разведывательных данных из-за линии фронта, верно служила партизанам для связи с Большой землей.В повести говорится также о подвиге рабочих, инженеров и техников Ленинграда, наладивших массовое производство «Севера» в тяжелейших условиях блокады; о работе советских разведчиков и партизан с этой радиостанцией; о послевоенной судьбе изобретателя и его товарищей.