Тарковский и я. Дневник пионерки - [22]
Конечно, не совсем точно утверждать, что период работы над «Андреем Рублевым» был только безоблачным. Или совсем неточно. Проблемы витали рядом и не давали расслабиться. Замечания по просмотренному материалу в Госкино и на студии, вызовы Тарковского «на ковер», а главное — недостаточная смета, выделенная на картину, требовала сокращения сценария, который никаким образом не вмещался даже в двухсерийный метраж. Тем более, что Тарковский снимал в тех раздражающих, с точки зрения начальства, «затянутых ритмах», которые как раз для него были принципиально важны и адекватны его собственному художественному мировосприятию.
Этот неторопливый ритм и очень ослабленная пружина действия стали, как мне кажется, основным поводом разногласия Тарковского с его соавтором по сценарию Андроном Кончаловским. Не принимая возражений Кончаловского, уже не разделявшего его взглядов на саму природу кинематографа, Тарковский позднее усматривал в конечном его неприятии «Рублева» конъюнктурное приспособленчество или, попросту, зависть.
Теперь, когда творческие биографии обоих режиссеров уже сложились, можно с полной уверенностью утверждать, что Кончаловскому по существу была противопоказана кинопоэтика Тарковского. Кончаловский, в конце концов, ориентировался на широкий зрительский успех, предполагавший яркие зрелищные формы повествования с укрупненными событиями, пружинящим действием, ярко прописанными характерами. Он совершенно искренне и во благо своему пониманию профессии сопротивлялся надменному нежеланию Тарковского идти на «уступки» публике.
В интервью, которое мне пришлось брать у Кончаловского много лет спустя в Амстердаме после премьеры его фильма «Любовники Марии», он дал исчерпывающий ответ на этот вопрос: «„Ностальгия“ Тарковского вступает в смертельную схватку со зрителем. Такое ощущение, что он положил голову на рельсы перед несущимся на него поездом и ожидает, что же за этим последует? Для меня этот вопрос снят, потому что ответ на него ясен, и я не стану класть свою голову на рельсы»…
Что говорить? После стольких лет моей жизни на Западе, после стольких последовавших в России перемен в так называемой культурной жизни и просвещении, я понимаю, наконец, во что и ради чего вкладываются деньги в искусство или то, что им называют, и предлагают для насыщения не зрителю или читателю, а потребителю. А тогда… Тогда мы были наивны, как дети, полные только святого негодования по поводу упорного нежелания Госкино оплатить «Андрея Рублева» гораздо более щедро. Плевали мы на глупые «идеологические» заказы. Наша задача была вне и выше всяких идеологий. Для нас она была очевидно культурно-значима, а какие-то идиоты этого не желали понимать ни в какую — а ведь какие огромные деньги, к нашему недоумению, вкладывались в какие-то «дурацкие» государственные заказы!
Для их выполнения выделялись целые армейские части. Но разве всегда окупались кассово «идеологически-важные» супер-колосы? Тем более сомнительна была для нас их идеологическая необходимость и очевидно более низкое художественное качество. Нам все было ясно тогда, когда Тарковского продолжали упрекать в «элитарности» и невостре-бованности его картин широкой аудиторией. Этот упрек был равен опасной идеологической наклейке и воспринимался им всегда с дрожью душевной. Тем более, что он сам к тому же совершенно искренне верил, что работает как раз для того самого «народа», который прямо-таки рвется посмотреть его картины. Кстати, это вполне соответствовало действительности именно потому, что их не пускали в широкий прокат. На самом деле у Тарковского, конечно, был свой собственный благодарный зритель, ожидавший его картин.
Более того, Тарковский настаивал — именно на этой идеологически выверенной формулировке — «НАРОД»! Развивая далее свою защиту не только перед обвинителями в начальственных кабинетах, но, как ни странно и перед самим собою. Например, работая потом над «Книгой сопоставлений», он неоднократно говорил, недоуменно пожимая плечами: «Не понимаю их… А кто же я сам, как не частичка этого народа? И каким образом, будучи этой частичкой, я могу не быть его „гласом“, удивительно, а? А как же еще? Даже если ко мне прислушивается небольшое количество людей. Ну, и что? Значит именно я им все равно нужен»… Так что непонимание всякий раз он воспринимал очень болезненно и свято верил в достаточно обширную собственную аудиторию. Представьте, что идея «слоновой башни» — была, как ни странно, не из его этического арсенала. Может быть, он наследовал подлинно демократические идеи от своих благородных предков, жаждавших хождения в народ. Может быть, от тяготения к этому народу возникла и Лариса Павловна со всем ее семейством, очень далекая от интеллигенции?
То есть, как бы то ни было, но, сопротивляясь официальным обвинениям, Тарковский выработал в себе для борьбы с начальством доступную им, хрестоматийно известную, но, казалось бы, вполне логичную систему аргументов. Настаивая на своем человеческом, гражданском и художническом праве высказываться на своем собственном языке, он, в конце концов, настаивал на суверенном демократическом праве не только большинства, но и отдельно взятой личности. Он откровенно рассчитывал «законно» прописать и приспособить это право к эстетике соцреализма. Ну, чем все это не «социализм с человеческим лицом»? Хотя само дарование, конечно, вырывало Тарковского далеко за пределы всяких канонизированных социализмом эстетических и идеологических норм…

Дорогой друг!Перед вами первый номер нашего журнала. Окинув взором современное литературное пространство, мы пригласили на нашу поляну тех, кто показался нам хорошей компанией. Но зачем? — вероятно воскликните вы. — Для чего? Ведь давно существует прорва журналов, которые и без того никто не читает! Литература ушла в Интернет, где ей самое место. Да и нет в наше время хорошей литературы!.. Может, вы и правы, но что поделаешь, такова наша прихоть. В конце концов, разориться на поэзии почетней, чем на рулетке или банковских вкладах…
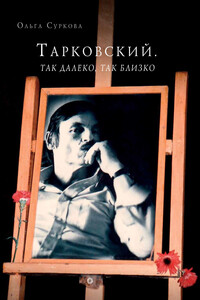
Сборник работ киноведа и кандидата искусствоведения Ольги Сурковой, которая оказалась многолетним интервьюером Андрея Тарковского со студенческих лет, имеет неоспоримую и уникальную ценность документального первоисточника. С 1965 по 1984 год Суркова постоянно освещала творчество режиссера, сотрудничая с ним в тесном контакте, фиксируя его размышления, касающиеся проблем кинематографической специфики, места кинематографа среди других искусств, роли и предназначения художника. Многочисленные интервью, сделанные автором в разное время и в разных обстоятельствах, создают ощущение близкого общения с Мастером.
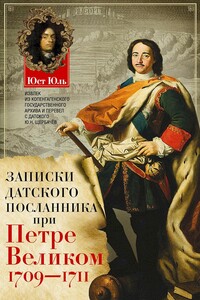
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
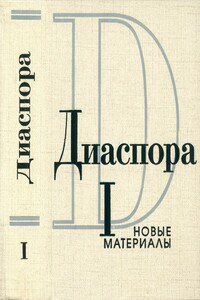
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.