Тамга на сердце - [2]
Когда помнить нечего, вспоминающие начинают размазывать манную кашу по тарелке и говорить обо всём понемногу. Вот уже от обилия превосходных эпитетов начинает рябить в глазах, и не знаешь, куда деться от наплыва деталей, увеличенных микроскопом правил хорошего тона.
При этом яркую память о человеке или явлении всегда можно обозначить без напряга и терминологического многословия. Ловлю себя на мысли, что когда доводится говорить о поэте Энвере Жемлиханове — какой он был и кто он был, даже думать не приходится. Выдыхаешь, словно долго и тщательно репетировал ответ: «Это был очень органичный и честный человек».
Энвер Мухамедович, кажется, всегда находился в состоянии лада и гармонии с собой. Категорически не приемля даже намёка вранья или фальши. Вот ещё одна цитата из интервью с Лилией Румянцевой. На мой вопрос «Каким был поэт Жемлиханов?», она ответила:
— Я бы сказала, добрым. Неограниченно. Добрым до наивности. На всю жизнь запомнила такой случай. Он шёл по тропинке, в снегу у спортзала по набережной. Навстречу ему бежали два парня. Энвер подумал: бегут, значит, спешат. Надо дорогу уступить. Отошёл в сторону с тропинки в снежную целину, и тут же получил сильнейший удар кастетом в голову. Залитый кровью, он пришёл домой и всё размышлял, что это они сделали по глупости, по молодости. Даже здесь он не опустился до ненависти. А как боялся он обидеть людей, даже ненароком, в своих рецензиях, какие виртуозные фразы он выдумывал, только бы не оттолкнуть от Литературы начинающих.
Бывало и такое. Приходит к нам домой какой-то парень. Говорит, что он фольклорист, собирает русские песни, ходит для того из города в город. Энвер распоряжается: напоить, накормить. Поим, кормим.
Но мне как филологу профессионально интересно, какие же песни парень уже собрал, чем псковские песни отличаются от других. И так я спрашиваю, и этак, чувствую, что из человека фольклорист явно не получается. Говорю уже Энверу: «Ты его в доме оставляешь, а кто он, от-куда?» — «Неужели ты не понимаешь, — отвечает он, — что ему, может быть, больше идти некуда». И в этих словах весь Энвер.
Впервые Жемлиханова я увидел где-то в первые годы так называемой перестройки. В приёмной местной газеты он сидел, закинув ногу на ногу, облокотившись на стол, и виртуозно, с матерком, ругал интеллигенцию, пишущих:
— И хочется кого-то поддержать, помочь, а некого поддерживать!
Увидев меня, заглянувшего в дверь на этих словах, секретарь Галина Николаевна засмеялась:
— Вот хотя бы Андрея поддержи.
Я уже пожалел, что нелёгкая принесла меня в этот час в редакцию. Думаю, услышу сейчас какую-нибудь вариацию на прежнюю тему, приготовился давать отпор. Но Энвер как-то сразу осёкся, задумался, впился в меня своим цепким внимательным взглядом и замолчал. Меня, в от отличие от моих стихов, он тоже видел впервые.
Спасительно распахнулась дверь редактора, меня пригласили туда. Когда пришло время уходить, Жемлиханова в приёмной уже не было. Я спустился по лестнице на улицу, но всё думал о том микроскопическом эпизоде. Воочию видел этот взгляд, чувствовал это нависшее молчание.
С того времени я однозначно знал, что Жемлиханов — поэт не по своей красной книжечке, а по самой корневой сути.
Стало понятно, почему Николай Рубцов выделял Энвера и по литинститутской легенде после одной посиделки признал его равным. В самом деле, не скажи отдельно, что цитирующееся далее стихотворение принадлежит перу Жемлиханова, можно и запутаться. Строки вполне «рубцовские», в одной стилистике и дыхании:
Вообще, Рубцов потому, наверное, и смог сложиться в столь глобальное явление, что сумел сконцентрировать и сформулировать голос того времени, который пробивался и звучал у многих. Рубцову отчасти повезло, отчасти помогли влиятельные друзья. Но, вне всякого сомнения, без широкой творческой волны, звучавшей у десятка самых разных поэтов, предвосхитившей Рубцова и вознёсшей его к вершинам читательских ожиданий, не было бы и его самого.
Часто у Жемлиханова встречаешь откровенные рубцовские интонации. Взять, например, классического «Федю», где есть даже элемент спора со стихами своего сокурсника, когда у рубцовского Фили, спрашивают: «Филя, что молчаливый?», а тот отвечает: «А о чём говорить?». Энвер Жемлиханов шукшинскому чудаковатому молчанию рубцовского Фили противопоставляет более деятельное, более открытое миру «Здравствуйте»:
Сложно сказать, у кого образ персонифицированной деревенской совести получился более привлекательным. Но, во всяком случае, «Федя» Жемлиханова ничуть не менее упруг, самоценен и глубок, чем «Филя» Рубцова. Два хороших русских поэта создали достойные стихи, которые не оценивать нужно, а читать почаще.
В последний раз с Энвером Мухамедовичем мы встретились 17 ноября 1994 года. Помню эту дату так отчётливо, поскольку в тот день наше литобъединение вместе с Жемлихановым выступало в Кунье, городке, находящемся неподалёку от Великих Лук. Нас отлично принимали, слушали стихи, задавали умные вопросы.

Палиндром (в переводе с греческого — бегущий назад) — слово или стих, одинаково читаемый как слева направо, так и справа налево.Андрей Канавщиков уверяет, палиндром — это не сенсация. Данность палиндрома — его магнетическое единство. Сцепление слов здесь выступает как единственно возможное сцепление. Прелесть палиндромов в том, что с точки зрения своих общих принципов, своей исторической традиции, они не бывают ни слабыми, ни сильными, ни сырыми, ни профессиональными.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
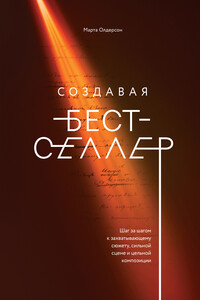
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.