Тамара Бендавид - [139]
Однако умная Fraulein не вразумилась и этим аргументом. Не находя, что ответить, она только оглядела еще раз Тамару неприязненным ревнивым взглядом и, величественно повернувшись к ней спиной, удалилась, не дожидая ее ухода, в свою комнату.
Не добившись никакого толку, Тамара ушла из «шписовских нумеров» расстроенная, раздосадованная и в полном недоумении, что все это значит и что теперь ей делать? Во всем поведении Каржоля относительно ее, казалось ей, было что-то загадочное. И в самом деле, это его молчание, длившееся чуть не год и неожиданно прерванное последним письмом, эти странные оправдания, какими оно наполнено, и теперь вот этот внезапный, совпадающий как раз с ее приездом, отъезд его в Москву по каким-то «делам» (и все-то у него «дела», везде «дела и дела»… Что это за «дела» такие?) это скрыванье своего адреса (Тамаре вспомнилось, что и в последнем письме своем он тоже не сообщал его) и, наконец, эта странная, двусмысленная какая-то ex-красавица с ее ревнивыми, наглыми взглядами и неприличным нахальным тоном, которая нашла уместным быть как-то настороже при объяснении с нею, точно бы это в ее интересах скрывать, где граф находится, — да что ж это такое?! Во всем этом чувствуется какая-то темная и, быть может, не совсем-то хорошая подкладка. Люди с чистыми делами и чистой совестью едва ли так поступают. Уже в письме его чувствовалось ей недоговоренное, как будто он что-то скрывает от нее, и теперь вот опять скрыванье чего-то и от кого-то. Зачем все это? И что такое, наконец, этот граф Каржоль, в самом деле? Каков его нравственный облик?
Тамара даже сама смутилась от этого своего вопроса, еще впервые поставленного ею пред собою так жестко, с такою беспощадною наготой и прямолинейностью. Правда, явился он у нее в минуту большого огорчения своею неудачей и под влиянием гневной досады на графа и на всю неприятную, подлую сцену, какой она только что подверглась «в нумерах», но тем не менее, уже явился — вот что важно в перипетиях ее чувства и отношений к Каржолю, — граф сам довел ее до этого. — По крайней мере, за самую возможность подобного вопроса она не себя, а его упрекнула.
И вспомнился ей тут Владимир Атурин в минуту последнего их свидания в сан-стефанском госпитале, когда она сообщила ему о своем отъезде в Петербург для предстоящей вскоре свадьбы; вспомнились его слова: «Да знаете ли вы, наконец, человека-то этого? хорошо ли знаете его?»— слова, горячо и невольно вырвавшиеся у него из сердца. Но увы! — она сама остановила его тогда, сказав, что если раз уже решилась на такой шаг, то ничего больше знать ей не следует. Этими своими словами она отрезала себе отступление. А ведь Атурин, по всей вероятности, знал что-нибудь про графа такое, что могло бы еще вовремя остановить ее. И она захотела этого, она предпочла отвергнуть собственное счастье с дорогим любимым человеком, чтобы «платить старый долг» и, во имя этого долга и данного слова, изломать себя всю до корня и идти до конца на неизвестное. На кого же пенять теперь, как не на самое себя! — И вот, это «неизвестное» уже начинает развертываться перед нею, и она стоит пред ним, точно бы на каком-то распутьи, в темную ночь, не зная, куда идти, на что решаться и что будет далее.
По возвращении ее в общинный дом, щвейцар подал ей телеграмму, полученную в ее отсутствие. — Неужели от Каржоля? — подумалось ей с несколько тревожным чувством в душе, как словно бы она уже не ожидала от него для себя ничего хорошего. Вскрыв ее тут же на нижней площадке лестницы, Тамара прежде всего взглянула на подпись, — там стояло «Каржоль».
«Рад несказанно приезду», писал он. — «Какая досада, что лишен возможности сейчас же возвратиться в Петербург. Крайне важные, нетерпящие дела призывают немедленно в Кохма-Богословск, потом во Владимир, Нижний, может быть, Пермь. От этого все зависит. Умоляю не беспокоиться, ждать терпеливо и верить по-прежнему. Как только кончу, прилечу тотчас. До свидания, дорогая».
Известие это несколько успокоило Тамару. — Стало быть, граф действительно в Москве, и ей не солгали в «нумерах», утверждая то же самое. Это обстоятельство дало ей справедливый повод тут же упрекнуть себя за свою чересчур уже подозрительную, мрачно настроенную мнительность. Из телеграммы видно, что он вовсе и не думает скрываться, как вообразилось ей вдруг с чего-то! — напротив, поспешил откликнуться тотчас же, и так тепло, так обрадованно. Что ж, может быть, и в самом деле, выдалась такая случайность, что ему пришлось уехать как раз накануне, тем более, что не мог же он святым духом знать о ее приезде! Судя по сан-стефанскому письму, он ведь рассчитывал на ее возвращение не раньше осени, вместе с другими сестрами. А дела, — что ж, быть может, и взаправду дела эти так важны, что их невозможно бросить. Быть может, от них зависит все его будущее благосостояние. Во всяком случае, она слишком поддалась впечатлениям своей досады и слишком поспешила осудить его — может быть, даже не заслуженно. А отчего? Не оттого ли, что уже не любит его больше по-прежнему и не прочь бы отделаться от него? Это гадко. В этом ей стыдно сознаться самой себе, но это так. И теперь, если заглянуть поглубже в ее душу, — не рада ли она для этого придираться ко всякому подходящему случаю?

За свою жизнь Всеволод Крестовский написал множество рассказов, очерков, повестей, романов. Этого хватило на собрание сочинений в восьми томах, выпущенное после смерти писателя. Но известность и успех Крестовскому, безусловно, принес роман «Петербургские трущобы». Его не просто читали, им зачитывались. Говоря современным языком, роман стал настоящим бестселлером русской литературы второй половины XIX века. Особенно поразил и заинтересовал современников открытый Крестовским Петербург — Петербург трущоб: читатели даже совершали коллективные экскурсии по описанным в романе местам: трактирам, лавкам ростовщиков, набережным Невы и Крюкова канала и т.

Роман русского писателя В.В.Крестовского (1840 — 1895) — остросоциальный и вместе с тем — исторический. Автор одним из первых русских писателей обратился к уголовной почве, дну, и необыкновенно ярко, с беспощадным социальным анализом показал это дно в самых разных его проявлениях, в том числе и в связи его с «верхами» тогдашнего общества.

Первый роман знаменитого исторического писателя Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» уже полюбился как читателю, так и зрителю, успевшему посмотреть его телеверсию на своих экранах.Теперь перед вами самое зрелое, яркое и самое замалчиваемое произведение этого мастера — роман-дилогия «Кровавый пуф», — впервые издающееся спустя сто с лишним лет после прижизненной публикации.Используя в нем, как и в «Петербургских трущобах», захватывающий авантюрный сюжет, Всеволод Крестовский воссоздает один из самых малоизвестных и крайне искаженных, оболганных в учебниках истории периодов в жизни нашего Отечества после крестьянского освобождения в 1861 году, проницательно вскрывает тайные причины объединенных действий самых разных сил, направленных на разрушение Российской империи.Книга 2Две силыХроника нового смутного времени Государства РоссийскогоКрестовский В.

Роман «Торжество Ваала» составляет одно целое с романами «Тьма египетская» и «Тамара Бендавид».…Тамара Бендавид, порвав с семьей, поступила на место сельской учительницы в селе Горелове.
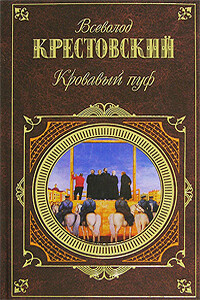
«Панургово стадо» — первая книга исторической дилогии Всеволода Крестовского «Кровавый пуф».Поэт, писатель и публицист, автор знаменитого романа «Петербургские трущобы», Крестовский увлекательно и с неожиданной стороны показывает события «Нового смутного времени» — 1861–1863 годов.В романе «Панургово стадо» и любовные интриги, и нигилизм, подрывающий нравственные устои общества, и коварный польский заговор — звенья единой цепи, грозящей сковать российское государство в трудный для него момент истории.Книга 1Панургово стадоКрестовский В.

Историческая повесть из времени императора Павла I.Последние главы посвящены генералиссимусу А. В. Суворову, Итальянскому и Швейцарскому походам русских войск в 1799 г.Для среднего и старшего школьного возраста.

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

В.В. Крестовский (1840–1895) — замечательный русский писатель, автор широко известного романа «Петербургские трущобы». Трилогия «Тьма Египетская», опубликованная в конце 80-х годов XIX в., долгое время считалась тенденциозной и не издавалась в советское время.Драматические события жизни главной героини Тамары Бендавид, наследницы богатой еврейской семьи, принявшей христианство ради возлюбленного и обманутой им, разворачиваются на фоне исторических событий в России 70-х годов прошлого века, изображенных автором с подлинным знанием материала.

