Такой смешной король! Повесть 2: Оккупация - [88]
Майстер бросился на кого-то — на кого? Сбив с человека каску, он провёл рукой по голове и вонзил нож: у того не было волос, а только в немецкой армии солдаты носили причёски. Майстер вдруг почувствовал какую-то неизъяснимую радость, словно в нём освобождалась упоительная энергия, целенаправленная на радостное свершение убийства, и в воспалённом мозгу вдруг вспыхнувшей ненавистью к самой жизни как проявлению биологического процесса, как разложению гриба, вцепившись кому-то в горло, чтобы рвать, душить, он испытывал физическое наслаждение, какое испытывал иногда с женщиной. Жизнь — благо? Жизнь — начало? К чёрту! Чем начало справедливее конца? Кто сказал, что планета нужна? Что на ней должна быть жизнь? И смерть — не дело, ибо в ней уже нет процесса сознательного. Действие — вот что есть жизнь, а убийство — действие, освобождение энергии, упоительное освобождение!..
И Майстер освобождался. Только что проломив кому-то череп простым камнем, — брызги полетели ему в лицо, — как в изумлении уставился на окружающее. Стало светло!
То была луна, выбравшаяся из-за туч на время, чтобы взглянуть на землю: чем-то там заняты живые разумные организмы — люди? Оказывается, майор Дитрих неправду говорил Землянике, будто, мол, луна куда-то удалилась, будто без фонаря совсем невозможно… А луна — вот ведь она! И увидел Майстер при лунном свете, что на поляне копошится живая масса разумных организмов, и увидел Майстер, что шандарахнул камнем не противника, а своего. А, чёрт с ним! Ведь и этот «свой» — не немец. Ведь всё здесь эти проклятые эсты, уже сколько веков, сколько веков… вынуждены их терпеть арийцы. Так что нет разницы, какого цвета на нём мундир, — всё равно не немец. А хотя бы и немец… Когда освобождается упоительная энергия — нет разницы, кого убивать.
Луна в омерзении спряталась за тучи. И надо было убийцам прибегать к фонарикам, чтобы, осветив на миг человека, установить: убить? Продолжалась невиданная по жуткости резня, когда сыновья одной матери-родины, одной маленькой части земли у моря, которую все бесконечно жаждут освобождать, резали и убивали друг друга, забывая и матерей своих, и детей, во имя которых эта дикость в мире якобы и происходит.
Ближе к утру на поляне, в кустах, на дороге всё поутихло. То тут, то там раздавались одиночные крики, предсмертные хрипы, чья-то ругань. На ветвях деревьев, невидимые ещё в предрассветных сумерках, каркали вороны, судя по их перекличке, прилетело их сюда множество. Когда наконец рассвело, победители могли установить, сколько их осталось в живых, начать отыскивать раненых. В восходящих лучах солнца им представилась страшная и отвратительная картина. Кругом валялись трупы в различных позах, песок и кусты вереска пропитались кровью, на кустах можжевельника ещё не засохшая кровь, стволы деревьев, камни — в крови, в траве валялись выбитые зубы, воняло испражнениями. Вся поляна и лес полны мёртвыми, ведь битва длилась всю ночь: и к той, и к другой стороне ночью подошли подкрепления…
Конечно, всё это не ново: на Куликовом поле было намного страшнее, и на месте гибели армии рабов Спартака тоже пострашнее, и в Сталинграде конечно же намного страшнее, здесь это всё лишь в миниатюре, но рассвет над полем боя нерадостен. Страшен рассвет там, где убито столько молодых жизней. Что же, хотя и за непонятные им идеи они здесь погибли, в одном им повезло: умерли они на песке своего родного острова.
Весь залитый кровью, в разорванном мундире, до того разорванном, что можно сказать — он был гол, Майстер с выбитым глазом лежал у большого мшистого валуна и уже ничего не осознавал, у него уже не было никакой энергии. Последнее, что он услышал, — тоже последнее хриплое ругательство умирающего эстонского легионера.
Конец второй повести

Роман о воровской жизни, резне и Воровском законеАвтор – человек интересной и необычной судьбы, прошедший гитлерюгенд и 15 лет сталинских лагерей. Многое, хотя и не всё, в его книгах автобиографично.

Ахто Леви – автор широко известных книг: «Записки Серого Волка», «Улыбка фортуны» Строя свои произведения на детективной основе, он привлекает внимание читателей исповедальностью, стремлением нравственно очистить своих героев. Роман «Бежать от тени своей» также написан с этих позиций. В нем автор исследует жизнь преступника Феликса Кента, журналистки Маргариты и других героев и страстно призывает к преодолению в самом себе того дурного, темного, что не дает человеку подняться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
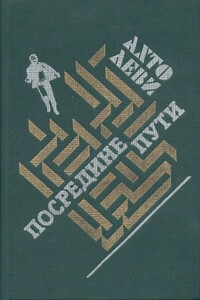
Имя Ахто Леви известно читателю по его книгам: «Записки Серого Волка», «Бежать от тени своей», «Улыбка Фортуны». Новый роман «Посредине пути» прямое продолжение прежних его книг. Это монолог человека, который вспоминает свою прежнюю непутевую жизнь, годы тюремного заключения и скитаний, людей, встреченных на жизненном пути.

«Записки Серого Волка» Ахто Леви – исповедь человека необычной судьбы. Эстонец по национальности, житель острова Саарема, Леви воспитывался в мещанской семье, подверженной влиянию буржуазной националистической пропаганды, особенно сильной в первый год существования Советской власти в Прибалтике – 1940-й. Тринадцатилетним мальчишкой в 1944 году Леви бежит из дому, из оккупированной фашистами Эстонии, в Германию, и оттуда начинается его горький путь жизненных компромиссов, нравственной неустойчивости, прямых преступлений.У автора одна задача: честно, без скидок и послаблений разбираясь в собственном запутанном, преступном жизненном пути, примером своей жизни предостеречь тех юношей и подростков, которые склонны видеть некую романтическую «прелесть» в уголовщине.

Эта первая из трех повестей известного писателя Ахто Леви рассказывает о мальчике-эстонце, который пытливо вглядывается в сложный и такой непонятный мир взрослых. Он живет по законам детства: безграничной любви, дружбы и добра, но в его светлый мир врываются такие понятия, как Сталин, репрессии и война… Вторая повесть о фашистской оккупации Эстонии, третья — о послевоенном становлении.

Рассказы и повести о моряках, о Северной Двине, о ребятах, которые с малых лет приобщаются к морскому делу. Повесть «Полярная гвоздика» рассказывает о жизни ненцев.
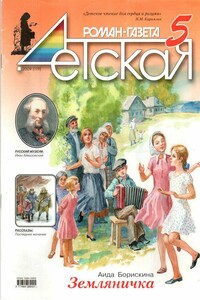
Это невыдуманные истории. То, о чём здесь рассказано, происходило в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу, в маленькой лесной деревушке. Теперешние бабушки и дедушки были тогда ещё детьми. Героиня повести — девочка Таня, чьи первые жизненные впечатления оказались связаны с войной.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
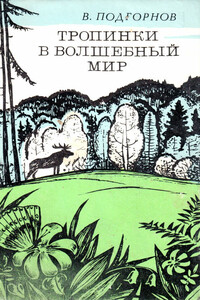
«Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», — писал Лев Толстой. Именно так понимал счастье талантливый писатель Василий Подгорнов.Где бы ни был он: на охоте или рыбалке, на пасеке или в саду, — чем бы ни занимался: агроном, сотрудник газеты, корреспондент радио и телевидения, — он не уставал изучать и любить родную русскую природу.Литературная биография Подгорнова коротка. Первые рассказы он написал в 1952 году. Первая книга его нашла своего читателя в 1964 году. Но автор не увидел ее. Он умер рано, в расцвете творческих сил.

Альберт Лиханов собрал вместе свои книги для младших и для старших, собрал вместе своих маленьких героев и героев-подростков. И пускай «День твоего рождения» живет вольно, не ведая непроницаемых переборок между классами. Пускай живет так, как ребята в одном дворе и на одной улице, все вместе.Самый младший в этой книжке - Антон из романа для детей младшего возраста «Мой генерал».Самый старший - Федор из повести «Солнечное затмение».Повесть «Музыка» для ребят младшего возраста рассказывает о далеких для сегодняшнего школьника временах, о послевоенном детстве.«Лабиринт»- мальчишечий роман о мужестве, в нем все происходит сегодня, в наше время.Рисунки Ю.

Действие повести «Капкан», завершающей трилогию, происходит в 1945 году: заканчивается вторая мировая война, на Островную Землю возвращается Советская власть. Вынужденное приспособленчество Алфреда приводит его к гибели. Определилась и судьба главного героя: «смешной Король» уходит «в люди», во взрослую жизнь.