Table talk - [6]
Я назвал себя, поблагодарил за отзыв, он протянул руку, сделался очень любезен. Мы условились встретиться в том же кафе на следующий день.
Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов — частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе всепонимающих людей, т.е. людей с умом вполне открытым , а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, какого он вообще встречал.
Разговор с Андрэ Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, предвкушал. Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделав ставку, и воспринимает малейшее критическое замечание о «Карамазовых» или «Бесах» как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре «Вье Коломбье», что кое в чём всё-таки ошибся, кое-что просмотрел и, как в таких случаях бывает, не старался ли сам себя переубедить? Ничего невозможного в этом нет.
После Достоевского речь зашла о Маяковском, об Эренбурге, затем довольно неожиданно о Мережковском, которого Жид не любил и упорно называл Мерейковским, очевидно считал, что французское «жи» в этом имени соответствует русскому «и краткому». Потом он заговорил о советской России, о каких-то катакомбах, которые должны там возникнуть, о бессмертном русском духе, который в эти катакомбы уйдет до лучших времен… Было это довольно выспренно, слегка театрально.
Я слушал и мне хотелось его спросить: «Как может случиться, что вы, Андре Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая, во всяком случае, на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?»
Конечно, я этого не спросил, да в такой форме и нельзя было бы спросить это. Личные мои чувства значения не имеют. Но вопрос сам по себе интересен и даже важен, и так или иначе в беседе с Жидом поднять его можно было бы.
Без постылого российского зазнайства, без патриотического самоупоения ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в какой-то одной плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука — и в конце концов, значит, к правде и лжи, — русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей дара этого наделен.
Во всяком случае, она была первой в мире. Не уверен, что можно было бы без натяжки сказать «была и осталась до сих пор».
Той же зимой я встретился с Андрэ Жидом у Буниных в Грассс.
За столом, пока завтракали, разговор шел о последних военных известиях, о положении во Франции, о Гитлере, о котором Жид сказал, что, по его мнению, он «крупнее Наполеона».
После завтрака заговорили наконец о литературе. Хозяин и гость явно нравились друг другу, хотя мало имели общего: Бунин — словоохотливый, шумный, насмешливый. Жид — сдержанный, вежливо улыбавшийся бунинским шуткам, но отвечавший на них, как на замечания серьезные. По-французски Бунин говорил плохо. Жид по-русски — ни слова.
Толстой и Достоевский: рано или поздно разговор должен был их коснуться, и так оно и произошло. Бунин знал о преклонении Жида перед Достоевским и принялся его поддразнивать. Тот отвечал коротко, уклончиво, неожиданно переняв бунинский шутливый тон, — вероятно, для оправдания своей уклончивости. Бунин произнес имя Толстого, как бы для окончательного уничтожения и посрамления Достоевского. Жид пожал плечами, развел руками, несколько раз повторил «гений, да, великий гений…», но признался, что для него «Война и мир» — книга чудовищно скучная («un monstre d'ennui»).
— Что? Что он сказал? — громко переспросил Бунин по-русски и, схватив огромный разрезной нож, с нарочито зверским видом замахнулся им, будто собираясь Жида убить. Жид рассмеялся и долго, долго весь трясся от смеха. Потом заметил:
— Я сказал то, что думаю действительно. В печати я, конечно, выразился бы иначе, не так откровенно. Но над «Войной и миром» я засыпаю… А вот позднего Толстого очень люблю. «Смерть Ивана Ильича». «Воскресение» — это незабываемо, это удивительно!
Не помню, как и в связи с чем я процитировал фразу из одной статьи Клоделя: «Это было в те годы, когда Толстого и Ибсена считали большими писателями…»
Жид пришел в полнейший восторг, опять весь затрясся от смеха и даже хотел записать цитату, приговаривая:
— О ла-ла, о ла-ла!.. Он один способен сказать подобный вздор, в этой области у него соперников нет.
Под вечер мы спускались с бунинского холма к автобусу. Речь зашла о французской печати, подлаживавшейся к оккупационным властям, и я выразил удивление, что такой человек, как Франсуа Мориак, печатается в «Кандиде», ежедневной газете сверхпетеновского склада.
Жид сказал:
— Да ведь ему платят сто тысяч франков за каждую главу романа. А сто тысяч это сто тысяч!
Толстой и Достоевский.
Вечная русская тема, да и только ли русская? Не два романиста, а два мира, два отношения к бытию, при общей у обоих глубине и значительности этого отношения. Оттого спор и неразрешим, оттого он в самой сущности своей неисчерпаем.

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья – парижских «Последних новостях» – с 1928 по 1940 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
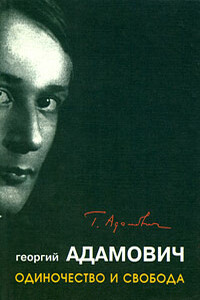
Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.СодержаниеОдиночество и свобода ЭссеМережковский ЭссеШмелев ЭссеБунин ЭссеЕще о Бунине:По поводу "Воспоминаний" ЭссеПо поводу "Темных аллей" Эссе"Освобождение Толстого" ЭссеАлданов ЭссеЗинаида Гиппиус ЭссеРемизов ЭссеБорис Зайцев ЭссеВладимир Набоков ЭссеТэффи ЭссеКуприн ЭссеВячеслав Иванов и Лев Шестов ЭссеТрое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)Поплавский ЭссеАнатолий Штейгер ЭссеЮрий Фельзен ЭссеСомнения и надежды Эссе.

Из источников эпистолярного характера следует отметить переписку 1955–1958 гг. между Г. Ивановым и И. Одоевцевой с Г. Адамовичем. Как вышло так, что теснейшая дружба, насчитывающая двадцать пять лет, сменилась пятнадцатилетней враждой? Что было настоящей причиной? Обоюдная зависть, — у одного к творческим успехам, у другого — к житейским? Об этом можно только догадываться, судя по второстепенным признакам: по намекам, отдельным интонациям писем. Или все-таки действительно главной причиной стало внезапное несходство политических убеждений?..Примирение Г.

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.
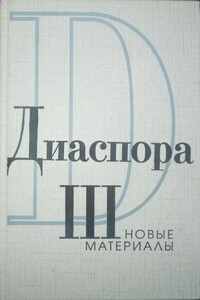
Эпистолярный разговор двух очень разных по возрасту, времени вхождения в литературу и степени известности литераторов, при всей внешней светскости тона, полон доверительности. В письмах то и дело речь заходит, по выражению Гиппиус, о «самом важном», обсуждаются собственные стихи и творчество друзей, собрания «Зеленой лампы», эмигрантская и дореволюционная периодика. Детальные примечания дополняют картину бурной жизни довоенной эмиграции.Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А. Богомолова.Из книги Диаспора: Новые материалы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.