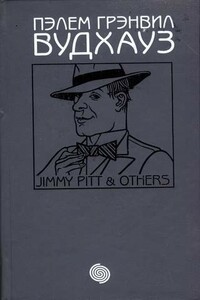«Святой Мануэль Добрый, мученик» и еще три истории - [4]
Если кто-то не одобрит, что я соединил в одном томе «Святого Мануэля Доброго» с «Бедным богатым человеком», пусть поразмыслит, какие подспудные и сущностные связи соединяют человека, взявшего на себя обязательство всю свою жизнь посвятить спасению ближних в вечности и ради того отказавшегося от продолжения рода, и человека, который не пожелал брать на себя обязательства из стремления сберечь себя для себя самого.
Если бы я дал волю своей склонности помудрствовать более или менее к месту, – главное, чтоб читатель провел время, нельзя же обременять его внимание чрезмерными обязательствами, – я бы стал докапываться, по каким таким причинам дал своим персонажам те имена, которые дал, а не другие: почему Роситу назвал Роситой, а не Ангустиас,[1] а не Трансито – то есть смерть, либо Долорес – Лолита, либо Соледад – Солита; а можно было бы назвать ее и Ампарито, и Сокоррито, и Консуэлито – Челито, и Ремедита, уменьшительное от Ремедиос, имена все значащие и с подтекстом, но такие рассуждения завели бы меня слишком далеко, впутав в какой-нибудь из разрядов консептизма, коим и без того меня можно шпынять, да еще как!
Консептизм! Должен сознаться – клянусь именем Кеведо! – что в этой повестушке я попытался изложить дело как можно проще, но не сумел уберечься от кое-каких консептистских искушений и даже от случая к случаю играл словами, иной раз чтобы привлечь внимание читателя, иной раз чтобы развлечь его. Ибо консептизм весьма полезен, о невнимательный читатель. Сейчас объясню тебе чем.
Я давно уже подумываю, а не следует ли мне написать трактат «О смысле существования», в коем трактовалось бы: о смысле существования; о смысле несуществования; о бессмысленности существования и о бессмысленности несуществования – я не морочу тебе голову заумью, – в этом трактате я изложил бы все самые истрепанные и затасканные общие места, но не в той форме, в которой они успели навязнуть у всех в ушах, а со святым намерением придать им новизну. Недаром же много лет назад я привел в ужас издателей одного еженедельника, специализировавшегося на плоском тупоумии и именовавшегося «Гедеон», ибо я заявил, что переосмысление общих мест – лучший способ избавиться от их зловредности, какое заявление Наварро Ледесма воспринял не то как заумь, не то как парадокс, не то как головоломку. Так вот, для читателей разных там «Гедеонов» я и должен написать мой трактат «О смысле существования».
И если бы, взять хоть такой пример, в этом своем трактате я домудрствовался бы, по выражению одного моего приятеля, до такой идеи: «смысл несуществования в наши дни монархии в Испании не предполагает бессмысленности существования таковой в другие дни, коих в минувшие времена было немало», – то я прибег бы к сей формулировке, дабы читатель, целенаправленно внимательный, а не гедеоновский, споткнулся бы на ее нешаблонности, на этом месте, не общем, а занятом мною – или мною освоенном, – вместо того чтобы спать себе в заезженной колее общих мест и шаблонов. Ибо подобная формулировка, формулирующая то, что уже было в привычных формулах, но оформленная по-иному с формальной стороны, помогла бы сформировать интерес даже у читателя, прежде невнимательного.
При чтении «Критикона» падре Бальтасара Грасиана меня раздражало его пристрастие к словесным играм и каламбурам, но потом мне пришло на ум, что знаменитый диалог «Парменид», написанный божественным Платоном, в значительной степени есть не что иное, как непомерная – то есть не умещающаяся в общепринятые мерки – метафизическая словесная игра. И я подцепил у нашего Грасиана это его пристрастие. Так вот, Грасиан говорит где-то, что не должно принимать близко к сердцу все то, в ответ на что стоит лишь пожать плечами; я же приписываю на полях: «С той поры, как Бог посвятил меня в рыцари, коснувшись моего плеча, я должен не плечи беречь от ноши, а грудь от ударов, но притом рваться в бой грудью вперед».
Ну и хватит, а то как бы, начитавшись этих мудрствований, читатель, чего доброго, не решил, что повестушку, о которой речь, я написал не с целью развлечь его, а с какой-то другой. Нет, я писал ее с целью развлечь читателя, а не с целью привлечь его на свою сторону. Впрочем, понятие «развлечь» почти равноценно понятию «привлечь»! И тут, да позволит мне читатель – в последний раз, больше не буду! – еще одно отвлечение или развлечение лингвистического характера, а именно: ведь глаголы «навлечь», и «отвлечь», и «вовлечь» того же корня, что «влечь, волочь», и да не подумает читатель, что я намерен вовлечь его в некое суемыслие либо навлечь на него некие кары.
Я дал волю словесным играм? Спору нет, давать волю словам иной раз опасно, но все же куда опаснее давать волю рукам. Не зря говорится: «Только неуч и хам дает волю рукам». А волю словам кто дает? В «Песне о моем Сиде» Пер Вермудес, отчитывая Феррандо, одного из инфантов Каррьонских и зятя Родриго Диаса де Бивара, обращается к нему с такими словами (строки 3326–3327):
«Язык безрукий, как ты смеешь говорить?» И Селедонио Ибаньес из моей повестушки – впрочем, может, она не столько новелита, сколько ниволета, – процитировав в беседе с Эметерио Альфонсо сии достопамятные строки из первого младенческого лепета нашей кастильской поэзии, откомментировал их так: «Да, худо будет, если безрукий язык посмеет говорить, но, может, еще хуже будет, если безъязыкие руки посмеют действовать! Ты сознаешь, Эметерио, что сие ^означает?» И Селедонио ухмылялся с подначкой, подначивая колеблющегося Эметерио. Впрочем, сам-то я вполне сознаю, что давать волю словам отнюдь не то же самое, что давать волю языку, хотя одно частенько ведет к другому.
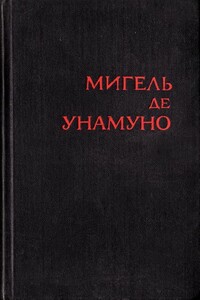
Библейская легенда о Каине и Авеле составляет одну из центральных тем творчества Унамуно, одни из тех мифов, в которых писатель видел прообраз судьбы отдельного человека и всего человечества, разгадку движущих сил человеческой истории.…После смерти Хоакина Монегро в бумагах покойного были обнаружены записи о темной, душераздирающей страсти, которою он терзался всю жизнь. Предлагаемая читателю история перемежается извлечениями из «Исповеди» – как озаглавил автор эти свои записи. Приводимые отрывки являются своего рода авторским комментарием Хоакина к одолевавшему его недугу.
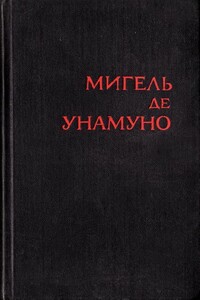
Своего рода продолжение романа «Любовь и педагогика».Унамуно охарактеризовал «Туман» как нивола (от исп. novela), чтобы отделить её от понятия реалистического романа XIX века. В прологе книги фигурирует также определение «руман», которое автор вводит с целью подчеркнуть условность жанра романа и стремление автора создать свои собственные правила.Главный персонаж книги – Аугусто Перес, жизнь которого описывается метафорически как туман. Главные вопросы, поднимаемые в книге – темы бессмертия и творчества.

В этой книге представлены произведения крупнейших писателей Испании конца XIX — первой половины XX века: Унамуно, Валье-Инклана, Барохи. Литературная критика — испанская и зарубежная — причисляет этих писателей к одному поколению: вместе с Асорином, Бенавенте, Маэсту и некоторыми другими они получили название "поколения 98-го года".В настоящем томе воспроизводятся работы известного испанского художника Игнасио Сулоаги (1870–1945). Наблюдательный художник и реалист, И. Сулоага создал целую галерею испанских типов своей эпохи — эпохи, к которой относится действие публикуемых здесь романов.Перевод с испанского А. Грибанова, Н. Томашевского, Н. Бутыриной, B. Виноградова.Вступительная статья Г. Степанова.Примечания С. Ереминой, Т. Коробкиной.
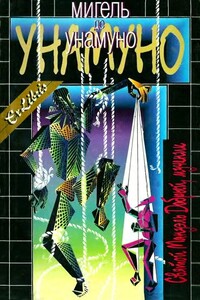
Чтобы правильно понять замысел Унамуно, нужно помнить, что роман «Мир среди войны» создавался в годы необычайной популярности в Испании творчества Льва Толстого. И Толстой, и Унамуно, стремясь отразить всю полноту жизни в описываемых ими мирах, прибегают к умножению центров действия: в обоих романах показана жизнь нескольких семейств, связанных между собой узами родства и дружбы. В «Мире среди войны» жизнь течет на фоне событий, известных читателям из истории, но сама война показана в иной перспективе: с точки зрения людей, находящихся внутри нее, людей, чье восприятие обыкновенно не берется в расчет историками и самое парадоксальное в этой перспективе то, что герои, живущие внутри войны, ее не замечают…
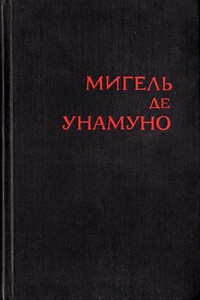
Замысел романа «Любовь и педагогика» сложился к 1900 году, о чем свидетельствует письмо Унамуно к другу юности Хименесу Илундайну: «У меня пять детей, и я жду шестого. Им я обязан, кроме многого другого, еще и тем, что они заставляют меня отложить заботы трансцендентного порядка ради жизненной прозы. Необходимость окунуться в эту прозу навела на мысль перевести трансцендентные проблемы в гротеск, спустив их в повседневную жизнь… Хочу попробовать юмористический жанр. Это будет роман между трагическим и гротескным, все персонажи будут карикатурными».Авито Карраскаль помешан на всемогуществе естественных и социальных наук.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
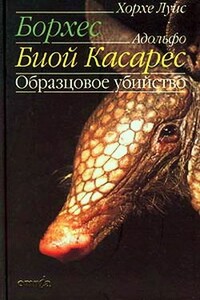
Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.
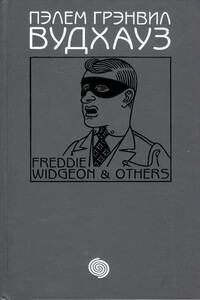
В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.