Святая тьма - [49]
В вестибюле кинотеатра "Гардист", который еще недавно назывался "Просвещение", мерцала слабая лампочка. Человек, вошедший с улицы, обычно в первый момент не мог ничего разглядеть.
Ян Иванчик никак не мог отважиться и отворить дверь в ярко освещенный зал, боясь, что ее скрип привлечет внимание публики, все начнут с любопытством оборачиваться и выражать свое неудовольствие. Он осторожно заглянул в ложи, напоминавшие крольчатник. Во время киносеансов каждый стремился попасть в ложу, но на торжествах и лекциях они почти всегда пустовали. Сегодня, однако, сюда забрались школьники. Пока Ян раздумывал, из правой ложи выскочил Тонько.
— Идите сюда, зять! Тут есть для вас место.
Мальчишки в правой ложе повскакивали с мест, приветствуя учителя. Их примеру последовали ребята, сидевшие в левой ложе. И в результате поднялся такой шум и возня, что публика в зале начала оборачиваться, а робкий поэт Ян Доминик остановился на полуслове — ему показалось, что в глубине зала что-то рухнуло. Директор школы погрозил в сторону лож пальцем и сделал это столь энергично, что от желтых шнуров его гардистского капитанского мундира аж посыпались искры. Мальчишки пригнулись и осторожно уселись втроем на двух стульях. Самый маленький из них, Винцек Одлер, успокоил остальных:
— Ладно! Одним колом больше, подумаешь!
Итак, хотя ничего особенного не произошло, учителя постигло именно то, чего ему хотелось избежать: он привлек внимание дубницкого общества, рассердил гардистского капитана, да еще обеспечил своим бывшим ученикам единицу по истории!
Ребятишек в ложе сидело человек пятнадцать. Семеро из них сбились вокруг Иванчика, а Флорко Амзлер даже перелез сюда из левой ложи, чтоб быть поближе к учителю. Кроме младшего Амзлера, Винцека Одлера и Тонько Кламо, здесь сидели Йожино Герготт, Имриш Тейфалуши, Ферко Дучела и Донбоско Клчованицкий. Когда-то, еще в пятом классе, к этой компании принадлежал и Францек Пайпах. Но, став немцем, он отвернулся от словацких однокашников — променял их на пожалованные ему сапоги, штаны и свитер и свиное сало для родителей.
Мальчишки рассказывали учителю на ухо, кого из поэтов он видит перед собой и какие книги написал каждый из этих поэтов и поэтесс, сидевших на сцене вместе с председателем Киприаном Светковичем и командиром глинковской гарды Андреем Чаварой. Школьники также вкратце сообщили учителю о том, что уже было прочитано и какие аплодисменты это вызвало.
Поэт Ян Доминик читал прямо-таки божественно. Его любовное стихотворение поистине напоминало молитву. Публика притихла.
Мальчишки своим перешептываньем всем мешали.
Директор снова погрозил им пальцем, и Ян, беспокоясь за ребят, приказал мальчуганам:
— А теперь, ребятки, тихо.
Поэт читал свои стихи с томной грустью. "Неужели такие телячьи нежности могут кого-нибудь тронуть, например Цильку?" — подумал Ян. Он посмотрел на голову своей жены, сидевшей в первом ряду, на ее каштановые волосы, волнами спадавшие на плечи, и ему стало стыдно за то, что он был с ней так груб. Ян мысленно попросил у Цильки прощенья за неуважение к ее любимому поэту… Но ведь он и не мог уважать его, ведь он только сейчас начал осмысливать слова и словечки, из которых состояло стихотворение. Там были не только длинные и звучные слова, как, скажем, "женщина" и "солнце", "босая" и "прелестная", "прийти" и "склониться", "когда-то" и "вожделенно"; были и совсем короткие, глухие словечки: "он" и "она", "здесь" pi "там", "так" и "но", "ах" и "ох". Все эти слова и словечки впервые звучали для него не бессмысленно, как это бывало раньше, когда он слушал или читал стихи. Теперь они постанывали и потрескивали, словно возы, до самого верха нагруженные бочками вина!
Дубницкие девушки уже отбили себе ладоши, но все никак не могли успокоиться. Поэт с едва заметной улыбкой кланялся, складываясь пополам. Он был долговязый и тонкий, как виноградная лоза. Было видно, что с женщинами он обходиться умеет.
Только придвинулся к учителю.
— Вы куда пойдете, когда все кончится?
— А что?
— Сестра сказала, что в погребке долго не останется. Где ей вас искать?
Ян снова взглянул на Цильку. Он видел, что, когда директор школы грозил своим ученикам, она каждый раз с тревогой оборачивалась назад: раз где-нибудь возник непорядок, значит, там находится ее муж. И действительно, он был там, в задней ложе. В дни их первых встреч она часто и охотно покупала билеты на эти места.
— Я подожду ее у Крижана, — сказал Ян.
— Его шинок не по дороге.
— Тогда у Бизмайера.
Какой-то малоизвестный поэт, сидевший у самого края стола — имени его мальчишки не запомнили, — объявил, что сейчас еще раз выступит Роберт Аквавита с отрывками из своих последних сюрреалистических стихотворений. Монах сидел между дубницким командиром глинковской гарды и молодой дамой с растрепанными волосами.
— Это и есть его Валика в штанах! — хихикнул Винцек Одлер.
Поэт, одетый в монашескую сутану, был тощий и смуглый, как индиец, с лицом грубым, словно наскоро вытесанным топором. Уже одна его внешность вызвала у женской половины публики длительные аплодисменты. Однако стихи его были лишены для дубничан какого бы то ни было смысла. Никто не понимал, что он выкрикивает. В зале поднялся шум. Люди переговаривались, стулья скрипели.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
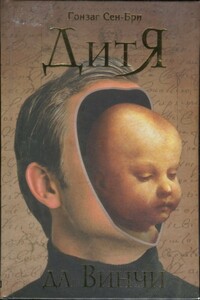
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
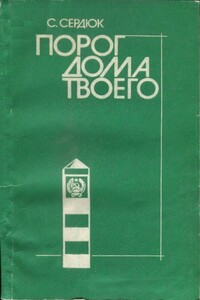
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.