Свои - [4]
Другой Русанов, Николай, с юных лет болезненно пытливый и энциклопедически образованный, сделался заметным журналистом и литератором и навсегда уехал в Европу, прихватив шандал в виде страуса с золотым гнездом перьев. Подле шандала и оплывающих свечей он и запечатлен на черно-белом снимке – волнистая шевелюра и вытаращенные глаза пророка (до этого фото, по счастью, пожар не дотянулся).
Он оставил множество публикаций (в основном в журнале «Русское богатство») и несколько книг, в том числе мемуаров.
В книге «На Родине» он в акварельных красках изобразил свое детство в просторном трехэтажном орловском доме с прислугой, полюбив и хорошенько изучив которую, и выбрал «мучительную стезю народничества». Начиналось все с неловкого панибратства. «Меня долго тошнило от первых стаканчиков и от первых цыгарок. Но я считал долгом поддерживать репутацию простоты – “етот наш, етот не ябедник!” – и годами идейно курил и тянул с нижним этажом и со двором всякую дрянь».
Их с будущим мореплавателем дед (то есть мой аж пра-пра-прадед! звучит как барабанная дробь! пам-пам-пам!), «красивый силач» Дмитрий Иваныч писал стихи и имел обширную библиотеку. «Было даже первое издание сочинений Пушкина, понять и полюбить которого было действительной его заслугой, как-никак, а затерянного, несмотря на свои образованные знакомства, в русской провинции тридцатых и сороковых годов. После Пушкина старик не признавал никого, гордился тем, что не читал ни Лермонтова, ни Гоголя, и жестоко ругал их, не прочитав из них ни строчки». «Натура незаурядная», он «тянулся к передовым дворянам и университантам» и то и дело принимался, как сам это называл, «фантазировать» перед домашними: изливать на них смелые рассуждения вперемешку с «истязанием словесностью», а безропотную жену Лизавету и вовсе ночь напролет услаждал в беседке посреди сада нескончаемыми декламациями из Пушкина…
Его сын унаследовал от отца столь же горячечную любовь к литературе, а вольномыслие поменял на охранительство весной 1866 года, когда в Орел прилетела весть об Александре Втором: «В государя стреляли». Коле Русанову тогда было семь.
«Меня родные засадили читать газеты: “Сын Отечества” и “Воскресный Досуг”, слушали, охали и выкрикивали: “Каракозов” (конечно, не русский!), “Общество ада” (и название-то какое злодеи придумали!), “Комиссаров-Костромской” (а! простой человек государя спас!). Отец выкатил из винного погреба бочку водки, которую тут же распили наши рабочие и прохожие. Вечером был приказ от начальства устроить “лиминацию”. Сальные плошки горели и трещали на славу. Один из моих родственников вывесил на нашем балконе транспарант с большим вензелем из переплетенных А (Александр) и М (Мария). А мать даже пожертвовала моими красными люстриновыми шароварами, сделав из них большой круглый фонарь и тем подвергнув испытанию мой юный патриотизм…» В то же время его бабушка по матери Анастасия Пирожкова удалилась в монастырь и приняла схиму под именем Марфы.
Гимназия, медико-хирургическая академия в Петербурге, книжки и кружки. Отправил в Орел к празднику длинное письмо, объявив, что отказывается от наследства и ежемесячного пособия, ибо «теперь, когда у мужика последнюю корову со двора за подати сводят», надо жить одной жизнью с народом. «Домочадцы после рассказывали, что в этом месте мать особенно горько всплакнула, а отец разбушевался и просил ему все показать, да у какого мужика и когда это он свел последнюю корову!»…
В 1880-м его стиль удостоил высоких похвал земляк Иван Сергеевич Тургенев в письме Глебу Успенскому. Прочитав слова живого классика, несговорчивые родители русановской невесты Оленьки перестали противиться сватовству начинающего автора.
Сам он несколько раз бывал в гостях у Тургенева, резко с ним спорил о судьбах народа и вот таким изобразил его, любуясь: «Эффектно-седые волосы, белая борода только еще больше оттеняли поразительную моложавость этого наполовину библейского, наполовину джентльменского лица, на котором и свет лампы лежал как-то особенно правильно и мягко. Он, и сидя за чайным столом, был выше нас целой головой, и его речь, плавная, сытая, я бы сказал, серебряная, как он сам, лилась на нас сверху».
«На нас» – это и на Всеволода Гаршина, друга Русанова, который на его глазах тронулся рассудком и незадолго до самоубийства прислал «сумасшедшее письмецо» о кровавости «скорой революции».
А наш герой, когда-то придумавший для себя опроститься, теперь со все тем же пылом решил европеизироваться, отчасти вдохновившись примером Тургенева, и в 1881-м отбыл к другим берегам.
На страницах его мемуаров «В эмиграции» встречаем Карла Маркса – в Швейцарии, в ресторане у пароходной пристани, – «пожилого широкоплечего господина с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с необыкновенно умными черными глазами, мясистым носом и огромной, почти совсем седой бородой». Немолодого теоретика сопровождала очаровательная румяная блондиночка. Пьяный в стельку приятель Русанова, нигилист-эмигрант Соколов (автор частушек, в которых называл себя «соколиком Колей»), некогда «блестящий офицер Генерального штаба», «сейчас же принялся без церемоний бросать вызывающие фразы на французском языке».
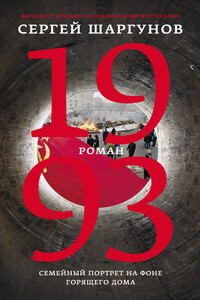
Сергей Шаргунов (р. 1980) – прозаик, главный редактор сайта “Свободная пресса”, радиоведущий. Первый роман “Малыш наказан” (премия “Дебют”) был издан, когда автору исполнилось 20 лет, затем появились “Ура!”, “Птичий грипп”, “Книга без фотографий” (шорт-лист премии “Национальный бестселлер”).Шаргунова называют “социальным писателем”. Его новый роман “1993” – семейная хроника, переплетенная с историческим расследованием. 1993-й – гражданская война в центре Москвы. Время больших надежд и больших потрясений. Он и она по разные стороны баррикад.
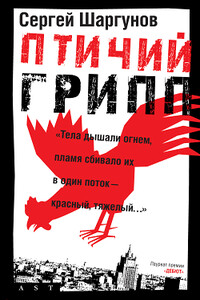
«Птичий грипп» – новый роман молодого, но уже известного прозаика Сергея Шаргунова.Его герои желают участвовать в русской истории. Они взрывают бомбы в кафе, раскидывают листовки у Кремля, штурмуют особняки на Рублевке и колонию в Краснокаменске. Или выслуживаются перед властью, топчут тех, кто посягает на власть.Преступники и романтики по обе стороны баррикады.
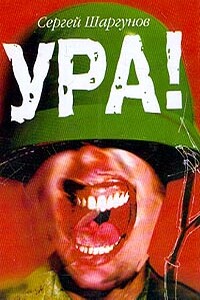
Шаргунов Сергей Александрович родился в 1980 году. Студент МГУ. С 2000 года выступает в «Новом мире» как прозаик и критик. Лауреат общенациональной премии «Дебют» в номинации «Крупная проза». Живет в Москве.Шаргунов — знаковая фигура современной литературы, день ото дня растут его мастерство и известность. Писатель умело соединяет жесткий реализм с ярким, поэтичным языком.«Ура!» — первая попытка создать правильного героя.«Ура!» — крик обращен напрямую к народу, к молодежи.Здесь не занудное морализаторство, а энергичный призыв бодриться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
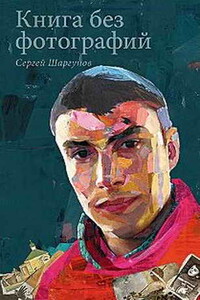
Новая книга Сергея Шаргунова — фотографический взгляд на пережитое. Кадры событий, запечатленные глазами нашего современника, которого волнует все происходящее в России и вокруг нее. Картины советского детства и воспитания в семье священника, юношеский бунт, взлеты и поражения, поездки на войну в Осетию и в революционную Киргизию, случайные и неслучайные встречи, судьбы близких и неблизких людей. Это и восторг узнавания, и боль сопереживания, и неожиданные открытия. Настоящая литература."Кладбище — фотоальбом.

Шаргунов Сергей Александрович родился в 1980 году. Выпускник МГУ. Автор пяти книг прозы. В “Новом мире” печатается с 2000 года. Живет в Москве.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.