Свободные размышления. Воспоминания, статьи - [128]
В 1956 году П.П. Громов641 уступил мне комментирование двух томов Лескова. Сделал он это потому, что хотел мне помочь материально – я только в 1954-м вернулся из лагеря и не надеялся найти какую-либо постоянную, хотя бы и скромную службу с зарплатой. Сам же Павел Петрович не любил комментаторской работы и с легким сердцем рекомендовал меня редколлегии издания.
Выбора у меня не было, и хотя я Лесковым никогда раньше не занимался, отказываться не приходилось. Положение было сложно в двояком смысле: во-первых, никто и никогда Лескова не комментировал, и я выступал как бы первопроходцем, что делало всю работу сложной и увлекательной; во-вторых, я столкнулся при комментировании «Запечатленного ангела» с почти полным отсутствием научной литературы о русской иконописи.
Выручил меня Владимир Иванович Малышев642, дружеские отношения с которым возникли еще в студенческую пору. Он знал все, что мне было нужно, и помог исправить несколько ошибочных датировок у Лескова.
Позднее к Лескову я не возвращался, но каково было мое удивление, когда от одной из участниц нового полного собрания сочинений Лескова я получил письмо, в котором она просила разрешения перепечатать без изменений мой комментарий к «Запечатленному ангелу»… Я, конечно, дал согласие, но оставил при себе удивление: насколько застыло лескововедение на уровне 1956 года!
В том же 1956 году я попал в Пушкинский Дом, сначала младшим научным сотрудником с обязательной отсидкой с 10 до 6, а затем старшим, когда стало вольготно – два дня в неделю!
Служба в Пушкинском Доме была приятной, но и обязательной: требовалось восемь печатных листов в год плановых работ, не всегда отвечавших моим собственным интересам. Особенно были для меня важны дружеские отношения с двумя первоклассными умницами – Лидией Михайловной Лотман643 и Елизаветой Николаевной Купреяновой644. Общение с каждой из этих удивительно оригинально мыслящих женщин очень влияло на мою собственную работу. Однажды меня поразила Елизавета Николаевна: когда я указал на чью-то работу, в которой, не ссылаясь, повторяли ее мысль, она сказала: «Тем лучше, значит, мысль правильная и пошла в ход».
В 1960-е годы я занялся Тредиаковским645 и наткнулся на ту франкоязычную журналистику, которая широко раскрылась перед ним в Голландии. Тут мне показалось, что я располагаю, наконец-то, общелитературными и собственно поэтическими составляющими литературной позиции, с которой он выступил в «Езде в остров Любви». Свежесть, нетронутость материала обещала возможность создания монографии о Тредиаковском-литераторе. Но тут возникло неожиданное препятствие: Тимофеева, тогдашняя заместительница директора Пушкинского Дома «по науке», категорически отвергла право Тредиаковского на самостоятельную монографию и предложила мне писать о Ломоносове. Спорить было можно, но бесполезно – и я согласился.
У меня не было личной симпатии к Ломоносову, той симпатии, без которой не удается проникнуть в самую сердцевину его поэзии. И все же кое-что мне в этой книге удалось показать. До сих пор не опровергнуто мое наблюдение над конфликтным построением од Ломоносова, в которых, как правило, борются две силы, а исход этой борьбы придает законченность и единство каждой оде. Много позже я, наконец, опубликовал сделанный Ломоносовым еще в Германии конспект «L’Art poétique». Публикация эта должна вот-вот появиться, и для меня она, собственно, важна потому, что подтверждает некоторые положения, которые я в 1983 году гипотетически высказал в статье под неожиданным для многих названием «Ломоносов и Буало».
Позднее я понял, что, устанавливая связь Ломоносова с Буало646, а не с немцами, на чем справедливо настаивал Л.В. Пумпянский647, я невольно следовал Пушкину, который писал о Ломоносове, что он, как и другие его современники, «подражая немцам, следовал французам».
В книге о Ломоносове я непреднамеренно избежал необходимости прикрепить его к одному из господствующих направлений, к барокко или классицизму. Тогда, в 1960 – 1980-е годы, такая прикрепленность к четырем основным направлениям (классицизм, барокко, романтизм, реализм) была общепринята и редко опровергалась. Однако, остро ощущая необходимость концептуального объяснения всей литературы XVIII века, от Кантемира до Крылова, я решился на своего рода ревизионизм по отношению к общепризнанной к тому времени (концу 1960-х годов) концепции Г.А. Гуковского, согласно которой классицизмом называлась только школа Сумарокова648, а все остальное называлось и определялось по-разному.
Мне трудно сейчас судить, насколько убедительна была внезапно родившаяся точка зрения, которая позволила мне тогда, впервые в нашей науке, предложить единую и общую концепцию развития русской литературы XVIII века. Я тогда, на переломе от шестидесятых годов к семидесятым, вооружившись неожиданной смелостью, писал в предисловии к «Русскому классицизму» – монографии, вышедшей в свет в 1972 году: «По отношению к русскому классицизму в нашем литературном сознании существует твердо укоренившееся предубеждение. Классицизм понимают как особую форму насилия над художеством, как принудительные правила для писателя, как систему затверженных законов и общепризнанных образцов. Классицизм чужд интересам личности и даже самой идее личности, он полностью подчиняет частное общему, особенное видовому, личность целому <…> Если же подойти к классицизму русскому с критерием историзма, то вполне возможно найти в нем глубоко и серьезно поставленную проблематику личности, человека, т.е. то, что составляет естественный предмет интереса при знакомстве с любым направлением в литературе, с любым произведением словесного искусства. <…> Специфика же этого выражения личности, которое характерно для русского классицизма XVIII века, заключается, по-видимому, в том, что личное, личностное начало проявляется еще в виде подчеркнутого авторского отношения к изображаемому; отношения, которое ни на миг не оставляет читателя наедине с литературной действительностью, а сопровождает его неотступно, в каждой строке, в каждом слове. <…> После того, как эта книга была написана, появилось несколько значительных монографий и сборников, в которых поставлены, как правило, на очень высоком исследовательском уровне важнейшие вопросы литературного движения в XVIII веке. Исследования эти <…> только укрепили наше убеждение в том, что русский классицизм на современном уровне историко-литературной науки нуждается в новом подходе, в обновлении методики изучения его художественной природы».
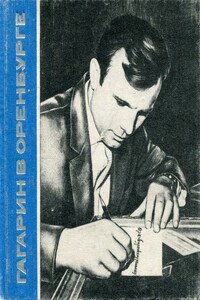
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
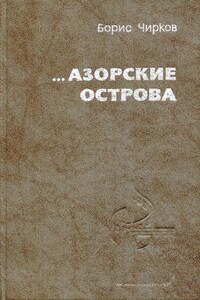
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
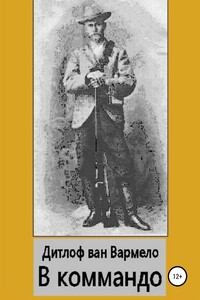
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.