Свет разума - [2]
Дьякон вынул из глубины халата зеленую бумажку.
— Язва одна возстала! Прикинулся пророком — и мутит. Вот, почитайте… новые христиане объявляются… — сказал он дрогнувшим голосом и смазал нос. — Как это называется?!
«Новый Вертоград…» — читаю я на бумажке, машинкой писано.
— Черто-град!.. Прости, Господи!.. — кричит дьякон. — Такой соблазн! Не баптист, не евангелист, не штундист, а прямо… дух нечист!.. Все отрицает! И в такое-то время, когда все иноверцы ополчились?! Ни церкви, ни икон, ни… воспылания?!. Отними у народа храм — кабак остался! А он, толстопузый, свою веру объявил… мисти-цисти-ческую! В кукиш… прости, Господи! И на евангельской закваске! Первосвященником хочет быть, во славе! И… интелли-гент?!. А?!. Свет разума?!. Объявил свою веру — и мутит! Но я вызвал его на единоборство, как Давид Голиафа. Зане Голиаф он и есть. Восьмипудовый. И вот теперь вышло у меня сомнение. Высших пастырей близко нет, предоставлен скудоумию своему и решил с вами поделиться тревогой!..
Дьякон вскочил, оглянул море, горы: снежную Куш-Каю, дымный и снежный Чатыр-Даг, всплеснул, как дитя, руками:
— Да ведь чую: воистину, Храм Божий! Хвалите Его, небеса и воды! Хвалите, великие рыбы и вси бездны, огонь и град, снег и туман… горы и все холмы… и все кедры, и всякий скот, и свиньи, и черви ползучие!.. Но у нас-то с вами разбег мысли, а мужику надо, на-до!.. — стукнул он себе в грудь. — Я про реформацию учил — все на уме построено! А что на уме построено — рассыплется! Согрей душу! Мужику на глаза икону надо, свечку надо, теплую душу надо… Знаю я мужика, из них вышел, и сам мужик. Тоскливо мне с господами сидеть подолгу, засыпаю. Храм Господень с колоколами надо!.. В сердце колокола играют… А не пустоту. С колоколами я мужика до последнего неба подыму! И я вызвал его на единоборство!
— Кого — его? Ах, да… интеллигента-то?..
— Самого этого езуита, господина Воронова. Ка-кая фамилия! Черный ворон, хоть он и рыжий, с проседью. И вот, послушайте и разрешите сомнение. А вот как было…
Еще в самую революцию, как социалисты-то наши на машинах-то все пылили, а интеллигентки, высуня язык, бегали, уж так-то рады, что светопреставление началось… — ах, что бы я мог порассказать… а вы роман бы какой составили!.. — в самое это время и объявился у нас тот господин Воронов, и даже потомственный дворянин. Из Англеи! В нем всякой закваски есть, от всех поколений. Вы его видали! Вот. И я на его лавочке нарвался. Пудов восьми, бык-быком. А как я на лавочке нарвался… Это после было, как я испытывать его ходил, его «Вертоград Сердца». Но скажу наперед, ибо потом сразу уж все трагической пойдет. Росту он к сажени, плечи — копна, брюхо на аршин вылезло. Ходит в полосатом халате и в ермолке, с трубкой. Рычит, в глазищах туман и кровь. Открыл он с мадамой лавочку «Дружеское Содействие». Принимать на комиссию. Всякого добра потащили, и он свои картины повесил для прославления. Денег у него было много, и давай по нужде скупать. Купил я у него, простите за глупость… машинку «примус», за сорок тысяч. Принес жене, а Катерина Александровна моя так вот ручки сложила: «Ах, ты, дурак-дьякон! Слезами своими, что ли, топить-то ее буду? Керосин-то ты мне достал?!» Хлопнул я себя в лоб: правда! Керосину уж другой год нет, и миллионы стоит! Не догадался. Жалко Катеньку было, как она с ребятами за дубовыми кутюками, как вот и вы, по горам ползала. Пошел назад. Не отдает денег! «А, — говорю, — вы мстите, что я дьякон и борюсь идеальным мечом?» «Нет, — говорит, — я в лавке не проповедаю, и у меня правило на стене. Грамотны?» Читаю объявление в разрисованном веночке из незабудок: «Вынесенная вещь назад не принимается». Хуже Мюр-Мерилиза! А мне сорок тысяч — неделю жить. «Хорошо, — говорит, — возьмите мылом, два куска. Чистота тела первое условие свободы духа!» «Дайте, — говорю, — один кусок и двадцать тысяч!» «Нет. Кусок и… молоток хотите или — щипчики для сахарку?» А сахарку у нас и в помине нет! Взял его мыло, а оно в первую стирку как завертится, как зашипит, так все в вонючий газ и обратилось! Поплакали, постояли над пузыриками, и пузыри-то улетучились, вот вам по слову совести! А мыло-то, дознано потом было, он сам варил по волшебному рецепту мошенническому. Так мы и прозвали: «Воронье мыло духовное!» Но теперь я обращусь к самому важному и даже трагическому.
В самые первые недели революции было то. Вышел я раз возглашать на ектенье и вижу: стоит у правого крылоса, поджав руки на брюхе, самый он, мурластый, и злокозненно ухмыляется. А после службы подают мне зеленую бумажку, а на ней отпечатано: «Видимая церковь есть капище идолов, а священники и дьякона — жрецы! Придите в Невидимую, ко Мне!» С большой буквы! А внизу, от Иоанна: «Аз есмь истинная лоза виноградная, а Отец Мой — виноградарь». Не обратили внимания: ну, штундист! Только, слышим, в народе стали говорить, что какая-то новая вера объявляется, а другие — что господин Воронов виноторговлю открывает и заманивает, а у его отца огромные виноградники закуплены, в компании с англичанами. Но все сие было только предтечею горших бед.
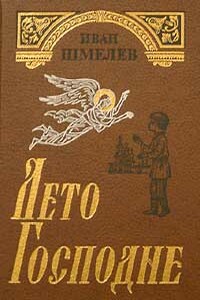
«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.«Лето Господне» (1927–1948) является самым известным произведением автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. (YMCA-PRESS). Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».
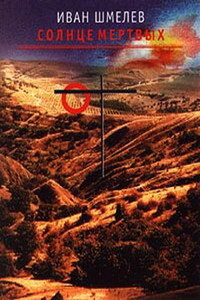
Эпопея «Солнце мертвых» — безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей ХХ века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию «Солнца мертвых», письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних «горячих точках», эпопея «Солнце мертвых», к сожалению, опять актуальна.Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:«Читайте, если у вас хватит смелости:».
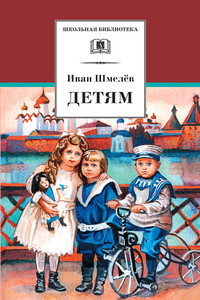
В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним.Для среднего школьного возраста.
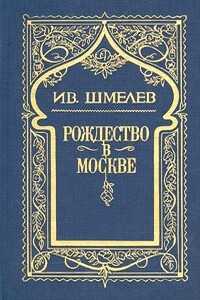
Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.Иллюстрации Т.В. Прибыловской.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
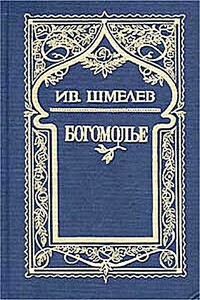
«Богомолье», наряду с романом «Лето Господне» — вершина творчества Шмелева.«Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта… Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясновидящей любви» (И. А. Ильин).Собрание сочинений в 5 томах. Том 4. Богомолье. Издательство «Русская книга». Москва. 2001.
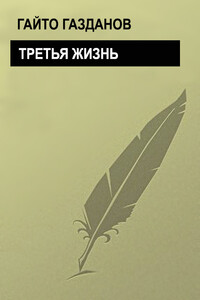
Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.
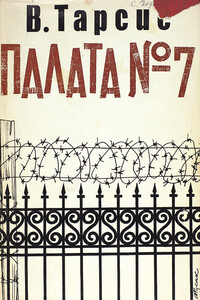
Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».
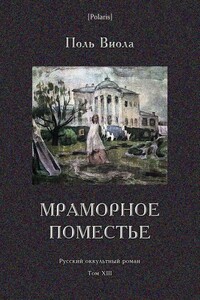
Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
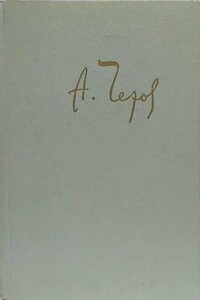
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
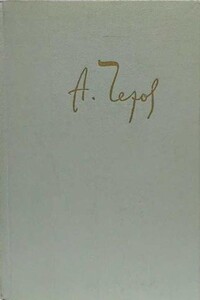
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
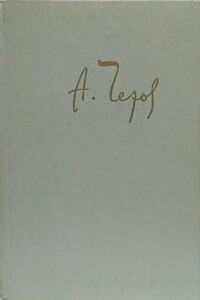
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.