«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями - [3]
Возможно, что мне не надо было бы трогать эту тему, но я кое-что слышал от самого отца, кое-что наблюдал и старался понять. Хотя это и трудно, тем не менее попробую рассказать, как я представляю себе его отношение к предмету любви и поклонения, источнику лирического порыва. Во внешних проявлениях страсти отец был накрепко скован цепью традиционной нравственной ответственности и благородства. В “Охранной грамоте” он называл это “возвышенным отношением к женщине”, в 1956 году в письме к Екатерине Александровне Крашенинниковой писал о “черте, за которой начинаются судьбы, совместности, соучастия в жизни, вещи счастливые и роковые”; Марине Цветаевой в 1926 году он рассказывал о мучительном преодолении страсти, вызываемой одиночеством лета в городе. “Стонущие дуги” невозможности сделать жизнь и счастье другого человека источником эгоистического использования и подвергнуть любовь опасности опошления были органически крепки в нем, держали и возвышали его душу ценою страданий и жертв. А судьба “по гроб, до морга” – отпугивала и сдерживала тех, к кому он стремился в молодости. Предметам его увлечений казалось, что они ему в реальности не нужны, что его чувство выдуманное и чисто духовное, что он сочиняет, фантазирует. Так думает Анна Арильд в “Повести” 1929 года. Серьезность его отношения не позволяла стать на легкий, игровой, бездумно-скользкий путь. В случае с Идой Высоцкой это рассказано им самим предельно доказательно и подробно в “Охранной грамоте”.
Мамочка говорила мне, что Надя Синякова измучила Борю тем, что играла на последнем пределе ласки, никогда не переходя его. Елена Александровна Виноград, напротив, была к нему строга и держала на определенной дистанции. Отсюда в посвященных ей стихах постоянные метафоры льда и холода. В конце жизни она с болью признавалась нам в жесткости своего отношения к Боре, ей казалось, что она сама ему не нужна, а он любит только свой поэтический сон о ней.
В Тихих Горах на Каме в 1916 году у Пастернака был краткий романтический эпизод с Фанни Николаевной Збарской. Ее муж – Борис Ильич – покровительствовал этим отношениям. Но пошлость видевшегося “треугольника” была невыносима, и что бы там ни затевалось и до чего бы ни дошло, отец едва не сбежал тогда от этого в Петроград. Судя по его письмам к родителям, он вскоре сумел овладеть собой и уехал при первой возможности.
В революционные годы и годы Гражданской войны Пастернак был страстно и душеизнурительно влюблен в Елену Виноград. Это видно по стихам “Сестры моей жизни”. Болезненные стороны этого романа “отсеяны” в книгу “Темы и вариации” и восстанавливаются по рассказам Елены Александровны о том, как Боря утешал ее, когда ей было грустно, приходил на помощь, ничего, кроме душевной растравы, не получая. Ей было больно с нами об этом говорить, и она во многом себя винила. Царство ей Небесное.
Встреча с мамочкой перед отъездом за границу родителей отца и сближение с ней к исходу 1921 года стало для него после страданий несчастной любви исполнением мечты о реальной жизни. Он суеверно не делал ее литературной героиней, не писал ей стихов, как Елене. Его чувство выливалось в письмах к ней, равных которым, как мне кажется, в эпистолярной лирике нет. Ее смелость и полная доверчивость в ответ на его любовь дали ему почувствовать себя полноценным человеком.
Мои родители поженились в январе 1922-го года и прожили одной семьей до 1931-го. Яркость детских воспоминаний в моем случае прошла жестокие испытания, поблекла, и они стали бледными и плохо различимыми. Главной причиной трудности совместного существования отца и матери была страстная посвященность их обоих своему искусству, то есть именно то, что было для обоих оправданием существования и душевно их сближало. В то же время в условиях “немыслимого быта” 1920-х годов совместная жизнь двух художников требовала чрезмерных физических и духовных сил. Одному из них приходилось жертвовать своим искусством ради работы другого, что тяжело отзывалось на обоих.
Надо сказать, что мамино самоутверждение было особенно жестко первые четыре года их совместной жизни. В 1926 году это стремление было максимальным по силе, она уехала тогда в Германию с намерением вырваться из оков семейной жизни и заняться только работой. Она не отвечала на отцовские письма и старалась найти себя в живописи. Однако вместо этого она ощутила силу своей привязанности к мужу и поняла, насколько он дорог ей и насколько его сила и талант несравненно выше ее собственных возможностей. Она вернулась с твердым намерением подчинить жизнь в доме его потребностям, создать необходимый уют и по мере возможности удобный уклад их совместной жизни. Но этому во многом мешали обстоятельства: тяжело пережитая ею смерть матери, окончание института, дипломная работа, слабое здоровье и, с другой стороны, сознательное в то время отталкивание отца от писательских организаций и официальных сторон жизни, следовательно, постоянные отказы на его просьбы о предоставлении квартиры в строившемся тогда писательском доме или о временном выезде за границу. Это, в конечном счете, и стало основной причиной того, что мои родители в 1931 году разошлись.
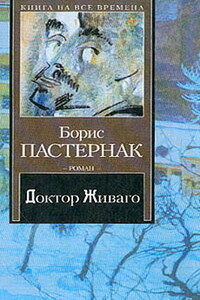
«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.
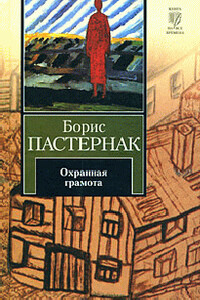
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
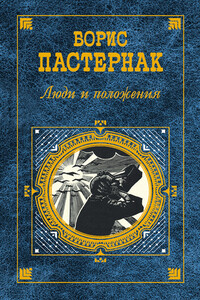
Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
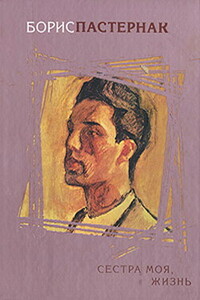
Эта книга представляет собой историю жизни и творчества Бориса Пастернака, отраженную в его стихах, прозе и письмах. Приведены отрывки из воспоминаний современников. Материалы подобраны с тем, чтобы показать творческий процесс создания произведений поэта на основе событий его жизни, как и из чего «растут стихи». В них отразились его мысли и состояние души, которые одновременно были закреплены в письмах Пастернака разным людям и в его прозе.
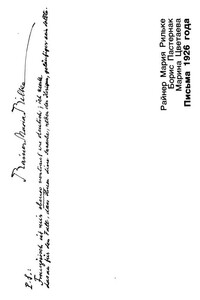
Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.