Сумма поэтики - [6]
Эвридика оказывается образом или проекцией «я», не оставляя пространства для алхимической свадьбы, для кровосмешения-трансмутации: это ее последняя эпифания, последнее явление Лиды-Леды. И последняя ревизия мифа, после которой тот сжимается, рушится, наступает ночь.
Ночь-хранительница. Она и сама обретается в некоем зазоре, чтобы не сказать разрыве, одновременно образуя его рваный контур, контур рта, раны или вагины, вбирающей в себя всевозможные поэтические техники, направления и школы. От декадентствующих «Путешествия в Хаос» и «Островов Вырождения», через акмеистическую «тоску по мировой культуре», до карнавального выворачивания этой культуры наизнанку в эпоху сближения с обэриутами и последующего онемения, превращения в «слепки, копии, подражанья», – таков, если коротко, этот контур, эта черная дыра, откуда дует «ветер богов поэзии», громоздя перед нашим взором обломки.
По бесконечностям сердца[16]
«Треножник» – название отсылает к пушкинскому «взыскательному художнику» и (там же) жертвеннику. Что ж, будем взыскательны. Поэт как жрец, поэзия как жертвоприношение: это древнее представление давно уже стало стертой метафорой. Хуже того, чем-то архаическим и наивновысокопарным, вопиюще идущим вразрез с современным – утилитарным, экономическим – пониманием языка и языковой деятельности. И Владимир Кучерявкин это прекрасно знает, знает как лингвист, переводчик и преподаватель английского. Но он знает и другое: человеческая активность не сводится к производству, накоплению и потреблению. Как показали исследования потлача и ритуального расточительства у первобытных народов, современной капиталистической экономике предшествовала иная экономика, основанная не на принципе полезности, а на принципе жертвы. Жертвоприношение и трата – фундаментальная человеческая потребность, вытесненная в ходе исторического развития. Поэзия сегодня оказывается едва ли не последним ее прибежищем. «Как жертва возвращает в мир сакрального то, что рабское употребление унизило и сделало профанным, ровно так же поэтическое преображение вырывает предмет из круга использования и накопительства, возвращая ему первоначальный статус»[17].
Сказать, что Кучерявкин возвращает стертой метафоре изначальный смысл, было бы, таким образом, не совсем корректно. А вернее, недостаточно; следовало бы сначала задаться вопросом о метафоричности глагола «возвращает» и о природе этого «изначального смысла». И тем не менее: «Как будто дым роскошной жертвы, / Я проношусь над всей землею с ветерком». Если за точку отсчета принять программные строки о «колеблемом треножнике», то здесь налицо не только верность пушкинской «парадигме», но и отклонение, сдвиг: поэт уже не жрец, священнодействующий со словом, а «дым роскошной жертвы». То есть остаточный продукт жертвоприношения (как сказали бы сейчас – «продукт горения»), в котором жертва и жрец суть одно. Слово, ставшее дымом. Без пафоса, без высокомерия: «с ветерком». Роскошь, которую не каждый может себе позволить. Другие постоянно присутствующие у Кучерявкина «непроизводительные траты», помимо собственно поэзии, – столь же древнего происхождения: опьянение, смех, эротизм. «Сдвинутая» алкоголическая оптика, со всеми ее градациями – от экстатического восхи́щения до мучительного снисхождения в ад бессмыслицы, «ад диких шумов и визгов», – деформирует традиционные размеры, одновременно сообщая им скрытую, «дребезжащую» гармонию, которая «лучше явной»:
Оптической «сдвинутости» отвечают всевозможные неправильности и нарушения, рваный, скрежещущий, «трамвайный» ритм («трамвай» – это поистине «Пегас», поэтический «тотем» Кучерявкина; в меру старомодное, демократичное, «бедное» средство передвижения, в котором материализуется тыняновская «теснота поэтического ряда»). «Гладкопись» у Кучерявкина практически отсутствует, в этом он наследует обэриутам и Блоку (с Блоком его сближает и то, что он тоже пишет «запоем» – циклами). Некоторые стихотворения звучат совершенно по-вагиновски; если бы не характерная грубоватость лексики и не своеобразная «буддийская» просветленность, озаряющая большинство его текстов, можно было бы сказать, что Кучерявкин – единственный в русской поэзии прямой продолжатель Вагинова с его диссонансами:
(Здесь летучему «трамваю» противостоит хтоническое «метро»; стоит поэту выйти из этой преисподней на свет, как его сродство с автором «Путешествия в Хаос» становится менее заметным.)
Эротизм также предстает в «Треножнике» в самых разных ипостасях, от вакхического прожигания жизни до по-детски щемящего товарищества, от озорства, почти похабства, до гибельного восторга. Целая феноменология страсти.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.
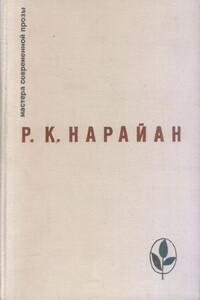
Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.