Сумерки божков - [186]
И вдруг вырвал дубину из рук у кого-то стоявшего рядом и, махая над головою, завизжал раздирательным и страшным криком, инда в толпе — передние — шарахнулись от него, и по народу широко качнулась попятная волна испуга.
— Сим победиши! — кричал Экзакустодиан, задыхающийся в приступах бешеных рыданий, в перехватах горла железным кольцом судороги. — Сим победиши!.. Бейте их, православные! Благословляю! Бейте!.. Сей род ничем же не изымается, токмо дубиною и битьем! Бейте, яко Никола Чудотворец Ария нечестивого, яко Ослябя и Пересвет татаровой на Куликовом поле!.. Кто не слушает — анафема! Кто не будет бить — анафема!.. Всякий, кто с ними, анафема! В себе, в детях, во внуках, правнуках, на семь колен нисходящих, да будет от меня анафемою проклят!.. Бейте с…ных сынов с блудницами их и отродием их! Анафема! тьфу! беси! ареды! мурины! тьфу! анафема!……….! бейте!., бейте!.. Грехи ваши беру на себя! сим победиши!.. бейте!., анафема! [439]
Экзакустодиана — изнеможенного, падающего — подхватили на руки телохранители его. Он забился… ему накинули на лицо черный плат и понесли его в часовню…
Толпа гудела и колыхалась. Многие падали на колени. Росла гроза — смутная и страстная. Массу потрясли, взволновали, взбушевали, напитали электричеством, но еще не направили, куда ей бросить свои молнии.
На тех же ступенях вырос человек — круглый, гладкий, солидный в свете уличных фонарей и часовенной лампады. На нем было хорошее пальто и меховой картуз. Он плавно водил пред собою рукою и говорил вкусно, сочно, внушительно, предлагая ближайшим слушателям каждое слово, точно ложку варенья прямо в рот клал.
— Вы же слышали, что приказывает нам достоуважаемый батюшка. Он же приказывает уничтожить разврат, приютившийся в городском же театре, и разогнать же негодяев, которые ж тем развратом промышляют. То ж дело доброе, что батюшка вам говорит. Но я же вам того, все же, Боже сохрани, на сию же минуту ж не посоветую ж. Потому что городские ж здания суть достояния казны ж, и государство же их охраняет, потому что иначе ж будет казне убыток. И вы ж можете столкнуться с полицией, а полицию ж мы должны почитать, потому что ж они суть верные слуги государства и охраняют же порядок. Но как сегодня ж есть день табельный, то повсеместно ж должен быть удовлетворен наш русский же патриотизм. Особенно же в зданиях казенных… А потому же, предлагаю же вам, братья ж и сочлены, — пойдем же в тот самый поганый театр, о котором говорил же нам достоуважаемый батюшка, и допросим: почему же в театре том в настоящий же табельный день не удовлетворен есть русский патриотизм? И коль скоро ж патриотизма нашего удовлетворить не пожелают, то мы же заставим, чтоб наш патриотизм был удовлетворен!
Толпа двигалась, как темный сон. Несли портреты, икону, русское знамя. Пели криком. Сбивали извозчиков с улиц в переулки. Встречных пешеходов захватывали волною и оборачивали идти с собою. Гомон, гоготанье, свист и вой заплели паутиною церковную мелодию, чуть прорывавшуюся в глубине толпы. Религиозное воодушевление давно схлынуло и стаяло. Теперь было просто весело идти массою, чувствовать себя хозяевами улицы и никого не бояться. Полиция — на пути процессии — как сквозь землю провалилась. Шли медленно. От черной народной тучи отрывались клочья: отдельные фигуры и группы людей забегали в попутные трактиры и портерные. Иные потом спешно догоняли уползшего вперед змея — толпу, но большинство застревало в тепле и свете злачных обителей и с довольным видом и чувством граждан, в совершенстве исполнивших свой долг, усаживались за водку либо пиво. В толпе пили на ходу, меняясь двадцатками и «мерзавчиками». Опустошенную посуду швыряли в фонари либо в первое приглянувшееся обывательское окно. С тротуаров визжали, аплодировали, радостно хохотали вечерние проститутки, только что выползшие из логовищ своих на добычу. Их хватали, обнимали, вовлекали в толпу, процессия превращалась в вакханалию, будто обрастала лишаями пьянства и разврата…
На углу Тотлебенской и Пушкинской двое мужчин — один длинный, похожий на веху, другой приземистый и толстый, похожий на бочонок, — обнимали под уличным фонарем пьяную, ослабевшую женщину и уговаривали идти с ними. Она бормотала:
— Ежели ноги не несут?.. К Бобкову согласна… А по улицам гулять — ежели ноги не несут?..
* * *
Свободно и красиво взвивалась к плафону театра широкая Marinaresca [440] Барнабы — Берлоги… Кажется, никогда еще не видал Андрей Викторович пред собою более блестящего бенефисного зала, никогда не встречали его более бешеными и долгими овациями, никогда влюбленная толпа не венчала его в боги свои с более дружным восторгом, с более единодушным преклонением!.. В костюме венецианского рыбака, Берлога пел свою маринареску, бросал красный колпак высоко в воздух над головою, ловил его на лету, хохотал, дурачился, заполнял сцену зловещею радостью «всемогущего демона совета десяти» — как задумал его Виктор Гюго, но едва отразил в музыкальном тусклом зеркале своем малосильный Понкиэлли… Сияла и звучала только сцена: Лидо в вечернем золотом зареве неба и моря, в вечерней песне мощного голоса и стройного радостного оркестра. Зал был темен и безмолвен: без единого кашля, без шорохов, — тысяча затаенных дыханий, две тысячи отверстых ушей…

Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она… тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет…..Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости…
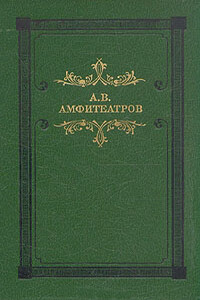
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Италия».

В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков».
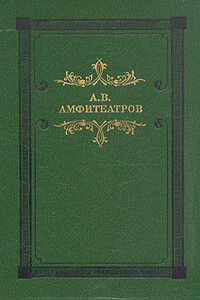
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.
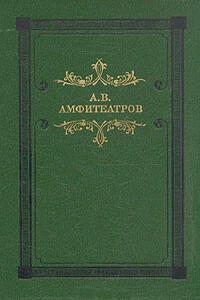
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Русь».

«Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда-либо где-либо светивших миру…».

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
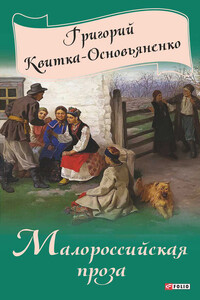
Вот уже полтора века мир зачитывается повестями, водевилями и историческими рассказами об Украине Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), зачинателя художественной прозы в украинской литературе. В последние десятилетия книги писателя на его родине стали библиографической редкостью. Издательство «Фолио», восполняя этот пробел, предлагает читателям малороссийские повести в переводах на русский язык, сделанных самим автором. Их расположение полностью отвечает замыслу писателя, повторяя структуру двух книжек, изданных им в 1834-м и 1837 годах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.