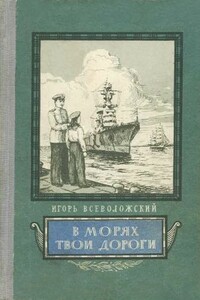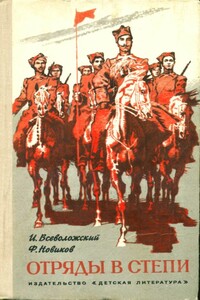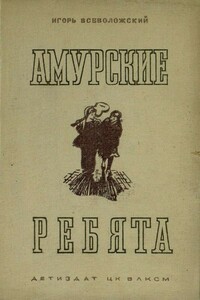Мои слабые надежды на благоприятное вмешательство в мою судьбу Агамемнона Скарпия (как-никак, я все же «спас» ему жизнь и кое-чем помог в предвыборной кампании, рухнули, как только меня вызвали к следователю, человеку с крысиным лицом и с трауром под ногтями. Он сообщил мне, что президент приказал в кратчайший срок провести следствие и что я обвиняюсь в семнадцати смертных грехах против республики, каждого из которых было бы вполне достаточно, чтобы вздернуть меня на виселицу. Я понял, что мне не выкарабкаться. На одном из допросов, когда я по-прежнему категорически отрицал все взводимые на меня обвинения, следователь сказал, что военное министерство обратилось к президенту с просьбой предоставить меня в его распоряжение. Я был бы удобен для военного министерства, шпион, который в чужой стране может никого ни о чем не расспрашивать, а попросту читать нужные ему мысли, Но президент отказал военному министерству: он сказал, что «на такую шельму, как я, Батата положиться не может». «Он доказал на суде, что заражен русским духом» — сказал Агамемнон Скарпия, и я понял, что окончательно погиб. Вскоре следователь любезно сообщил мне, что следствие, закончено и моя «сообщница» уже отправлена в ссылку на Змеиные острова. Бедная Сэйни! Какая неприглядная судьба ее ожидала: стать наложницей пьяного колонизатора, зачахнуть от малярии и нестерпимой жары или умереть мучительной смертью от змеиного укуса! Я проплакал о ее судьбе всю ночь, а на утро следователь мне заявил, что следствие по моему делу закончено и дело передано в особый суд.
Председатель особого суда не дал мне вымолвить ни одного слова. Он грубо обрывал меня, когда я пытался защищаться. Суд проводился в закрытом порядке, на нем не было не только публики, но и представителей прессы. Агамемнон Скарпия хоронил меня втихомолку. Клятвопреступление, оскорбление высших чинов верховного суда Бататы, шарлатанство и обман многочисленных подданных Бататы, дебош в зале суда, шпионаж в пользу иностранной державы, приверженность к коммунизму — это была лишь меньшая часть моих преступлений, за которые мне предстояло понести наказание. Меня присудили в тот же день к пожизненной каторге на реке Крокодилов. Я знал, что это значит. В этих местах прикованные к тачкам каторжники не выдерживали более года. Крокодилам в реке всегда было достаточно пищи.
Однажды стражник сказал, что у меня есть на воле друзья, которые пытались мне устроить побег, но из цезарвильской тюрьмы, усовершенствованной по последнему слову техники, побег невозможен. Я спросил, могу ли я отдать им свои записки и сумеют ли они издать эти записки за пределами Бататы.
На другой день стражник сообщил, что записки будут переправлены за границу и изданы. Я отдал ему свою тетрадь, которую тщательно прятал в своей камере, во мне одному известном потаенном месте. У меня появилась цель в жизни — еще до своих похорон на реке Крокодилов хоть краем уха услышать, что в мире узнали о прозорливце, который мог принести пользу человечеству, но пал жертвой ожесточенной возни политиканов, больше всего думающих о наполнении желудков едой и карманов лаврами и менее всего — о счастье своего народа.
И у меня появилась твердая уверенность в том, что не Гессарт и не Скарпия — выразители воли бататского народа, а сам народ, тот народ, который не хочет ни с кем воевать, хочет мира и дружбы со всеми и, в первую очередь, с Советским Союзом — и этот народ сметет в конце концов любого Скарпия и ему подобных, чтобы достигнуть своей цели.
И тогда… кто знает? Может быть, мне удастся еще выйти в море и снова стать тем, кем я был до того, как стал прозорливцем?