Стрельцы у трона. Русь на переломе - [76]
— Оно так… Вестимо, все так, отец протопоп, как ты сказываешь, — поспешно заговорил царевич. — Нарек меня государь… Я — старшой. Мне он и завещает царство. И земли я тревожить не стану. По-старому буду царить… Пошто же теперь хворого родителя нудить?.. Он и разгневаться может, што докучаю я ему не в пору. «Ишь, — скажет, — я не помер еще, а сын старшой дотерпеть не может… Пришел наследья просить»… Хорошо ли… А то все правда, што сказываешь, отче… Все истинно.
Сбитый с позиции, протопоп побагровел даже от усилия мысли, но, не находя, что дальше сказать, чем убедить отрока, такого сильного именно своей чистотой и наивностью, только обеими руками поглаживал с боков широкую бороду и негромко посапывал.
Заговорил Богдан Хитрово.
Зная мягкий, нерешительный характер Федора, способного в то же время проявить сильнейшее упрямство, если очень насесть на него, боярин начал мягким и примирительным тоном, как будто бы желая остановить и образумить тех, кто говорил раньше:
— И што это вы, други мои… И ты, боярыня — тетушка моя любезная, и ты, отец Василий. Нешто можно так? Царевич и впрямь помыслит, што мы супротив государя идем, али што неладно задумали… Душенька-то у нево, ангела нашево, светла… Он до чево разумом не дойдет, духом учует… А, лих бы, и то надо прямо поведать: каки козни да подвохи с супротивной стороны идут? Вестимо, не от матушки царицы Натальи Кирилловны со младым царевичем… Нет. От Артемона, слышь, от Матвеева от боярина и всему царству замутителя… Оно, вестимо, не на государя на нашего, на царевича, на Федора Алексеевича злоба, матвеевская. Тово сказать не мочно. На нас, на рабов царевича да на присных ево — злобится той коварник. Мы-де ему и Нарышкиным дорогу заступаем… А воссияет над землей, яко солнышко, юный царь Федор — и ему конец, старому грешнику. Наша тода взяла. Вот пошто он и тянет в царенки Петра-малолетка перед старшим братом. А царица Наталья, первой в царстве ставши, никому иному, как Матвееву да Нарышкиным земли на пагубу отдаст, на поток, на разоренье… И на душе у царевича же у старшова, у тебя, свет Федор Алексеевич, то быть должно, коли земля замутится… Ежели — доживешь только до тово часу…
— Доживу?.. Да, што?.. Да нешто? — со внезапной тревогой в голосе заговорил Федор, видя, что Хитрой вдруг запнулся и умолк на полуслове.
Лукавый боярин молчал. Юноша с вопросом переводил взор с одного на другого, на всех присутствующих. Никто не решался заговорить, и среди наступившего тяжелого молчания Федор, склонив голову, бледный, уронив руки вдоль тела, сидел, глядя перед собой немигающими глазами. А острая тревога все больше и больше росла в сердце юноши, словно тисками сжимала ему больную грудь.
— Што уж тут отмалкиваться, брат-государь. Я скажу, Феденька, коли другим не охота. Не взыщи, што девичий обычай забываючи, в боярские речи вступаюсь, — неожиданно прозвучал резкий, сипловатый голос царевны Софьи: — Дело такое… Не то, лих, тебя да царства, — и всех нас касаемое… Всево гнезда Милославских. Сестер всех нас, царевен, и брата Ивана, не одново тебя… Только во услышанье не ведутся речи, а всем ведомо, што и нас всех извести задумали прихвостни нарышкинские, да матвеевцы, да никоновцы треклятые… Кабы еще рать стрелецкая не за нас, кабы от них не опаска малая, — и не было бы давно на свете всево гнезда нашево. Може, гляди, оно и лучче, што не идешь ты к государю-батюшке. Може — и не зван им, а вороги туда зовут, по пути бы извести, али и на глазах у родителя. Хворый он, што поделает… Всего мы за Лихолетье наслышались. Видно, и вновь бояре задумали на царской крови своей корысти поискать. Вот и причина, што доброхоты наши затеяли поживее тебя царем наречь… И государя-родителя хвораво надо на то привести, покуль жив. Штобы народу ведомо было: хто царь. Може, и государь-батюшка без прошения без твово наследье тебе отдаст. Так нешто вороги наши не скроют приказ царский? Поставят братца Петрушу, да не малолетка, вестимо, себя поставят в цари… Нас — по кельям спервоначалу… А там… Што с сиротами бобылиться?.. Вон што было годуновским детям, то и нам буде… А тебе, гляди, первому… Вот чево не договорил боярин, так не взыщи: я досказала, тебя, себя, всю землю жалеючи, от смуты оберегаючи. Тово ради и надоть тобе к батюшке-государю идти. Да за обороной крепкою. Не дать бы ворогам в руки здоровье твое…
Сказала и, отдав поклон брату, уселась, сдерживая сильное волнение, овладевшее девушкой от необычного поступка. Щеки Софьи пылали, глаза горели из-под опущенных ресниц.
Федор выслушал молча речь сестры. Только еще больше помертвели его щеки, еще ниже опустилась на грудь голова на тонкой, исхудалой шее.
Опять наступило молчание.
У многих заскребли кошки на душе. А что, если царевич по своей прямоте и наивности пойдет один к царю и спросит его: правда ли то, что он слышал сейчас? И испортит своим личным вмешательством весь так хорошо налаженный план…
Тогда вмешался Петр Толстой, он заговорил смело, решительно:
— Э-эх, государыня-царевна, не мимо слово молвится: девичья доля — шлык да неволя. Вон, хорошо ты удумала, как речь свою повела, а сколь опечалила царевича — света нашево… Гляди, и в тоску вогнала… Мыслит он теперя: «Дома сидеть — злу свершиться дать. Пойти на оборону роду — сызнова добром дело не покончится, свара пойдет, а, може, и до крови дело добежит… И так — грех, и инако — грех!». А еще ты молвила, может, и не зван-де царевич к родителю. То уж и не след бы сказать. Вот сам Матвеев боярыне Анне Петровне сказывал, зовет-де царевича государь… И от лекаря Данилки, либо Стефанка, как ево там, нехристя, — те же вести были… Пошто зовет, — не ведаем мы. Так думать надо: на худое родитель сына на смертном одре звать не станет. А и сами нарышкинцы не посмеют при царских очах, во покоях царских, где стрельцы охраной стоят, не ихнево полка… Ничево они явно не поделают супротив здоровья и персоны царевича… То лишь сотворено быть может, што поспели подговорить государя… И царь клятву какую ни на есть может взять с царевича… И клятвою тою, — ровно по рукам колодника, — свяжет ево… Вот чево беречись надо… Так, хто не ведает, што клятва насильная — и не в счет. Бог той клятвы подневольной не слышит, не приемлет. Робенок малый про то ведает. Об том и помыслить надо. К тому и царевича света нашево натакнуть: как ему быти?

В книгу вошли три романа об эпохе царствования Ивана IV и его сына Фёдора Иоанновича — последних из Рюриковичей, о начавшейся борьбе за право наследования российского престола. Первому периоду правления Ивана Грозного, завершившемуся взятием Казани, посвящён роман «Третий Рим», В романе «Наследие Грозного» раскрывается судьба его сына царевича Дмитрия Угличскою, сбережённого, по версии автора, от рук наёмных убийц Бориса Годунова. Историю смены династий на российском троне, воцарение Романовых, предшествующие смуту и польскую интервенцию воссоздаёт ромам «Во дни Смуты».

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Роман-хроника «Последний фаворит» посвящен последним годам правления русской императрицы Екатерины II. После смерти светлейшего князя Потёмкина, её верного помощника во всех делах, государыне нужен был надёжный и умный человек, всегда находящийся рядом. Таким поверенным, по её мнению, мог стать ее фаворит Платон Зубов.
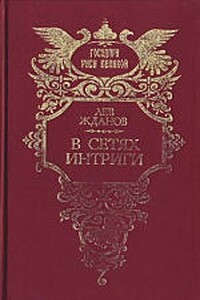
Исторические романы Льва Жданова (1864 – 1951) – популярные до революции и еще недавно неизвестные нам – снова завоевали читателя своим остросюжетным, сложным психологическим повествованием о жизни России от Ивана IV до Николая II. Русские государи предстают в них живыми людьми, страдающими, любящими, испытывающими боль разочарования. События романов «Под властью фаворита» и «В сетях интриги» отстоят по времени на полвека: в одном изображен узел хитросплетений вокруг «двух Анн», в другом – более утонченные игры двора юного цесаревича Александра Павловича, – но едины по сути – не монарх правит подданными, а лукавое и алчное окружение правит и монархом, и его любовью, и – страной.
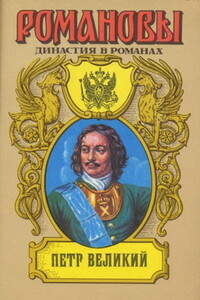
Преобразование патриархальной России в европейскую державу связано с реформами Петра I. Это был человек Железной Воли и неиссякаемой энергии, глубоко сознававший необходимость экономических, военных, государственных, культурных преобразований. Будучи убеждённым сторонником абсолютизма, он не останавливался ни перед чем в достижении цели. Пётр вёл страну к новой Жизни, преодолевая её вековую отсталость и сопротивление врагов.
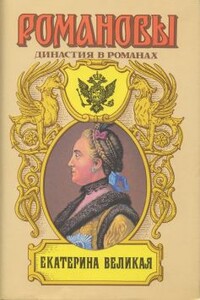
«Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сём отношении Екатерина заслуживает удивления потомства.Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало её владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве».А. С.
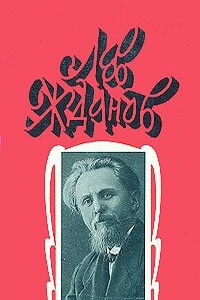
Среди исторических романистов начала XIX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864 — 1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы — хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет. В шестой том вошли романы — хроники ` Осажденная Варшава` и `Сгибла Польша! (Finis Poloniae!)`.
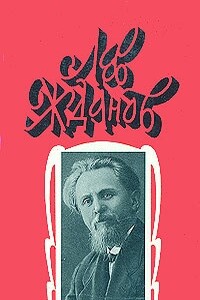
Среди исторических романистов начала XIX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864–1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы — хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет. В шестой том вошли романы — хроники «Осажденная Варшава», «Сгибла Польша! (Finis Poloniae!)» и повесть «Порча».

... Это достаточно типичное изображение жизни русской армии в целом и гвардейской кавалерии в частности накануне и после Февральской революции. ...... Мемуары Д. Де Витта могут служить прекрасным материалом для изучения мировоззрения кадрового российского офицерства в начале XX столетия. ...

Роман «Дом Черновых» охватывает период в четверть века, с 90-х годов XIX века и заканчивается Великой Октябрьской социалистической революцией и первыми годами жизни Советской России. Его действие развивается в Поволжье, Петербурге, Киеве, Крыму, за границей. Роман охватывает события, связанные с 1905 годом, с войной 1914 года, Октябрьской революцией и гражданской войной. Автор рассказывает о жизни различных классов и групп, об их отношении к историческим событиям. Большая социальная тема, размах событий и огромный материал определили и жанровую форму — Скиталец обратился к большой «всеобъемлющей» жанровой форме, к роману.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В романе Амирана и Валентины Перельман продолжается развитие идей таких шедевров классики как «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете, «Мастер и Маргарита» Булгакова.Первая книга трилогии «На переломе» – это оригинальная попытка осмысления влияния перемен эпохи крушения Советского Союза на картину миру главных героев.Каждый роман трилогии посвящен своему отрезку времени: цивилизационному излому в результате бума XX века, осмыслению новых реалий XXI века, попытке прогноза развития человечества за горизонтом современности.Роман написан легким ироничным языком.

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.

Юзеф Игнацы Крашевский родился 28 июля 1812 года в Варшаве, в шляхетской семье. В 1829-30 годах он учился в Вильнюсском университете. За участие в тайном патриотическом кружке Крашевский был заключен царским правительством в тюрьму, где провел почти два …В четвертый том Собрания сочинений вошли историческая повесть из польских народных сказаний `Твардовский`, роман из литовской старины `Кунигас`, и исторический роман `Комедианты`.

Георг Борн – величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой человеческих самолюбий, несколько раз на протяжении каждого романа достигающей особого накала.
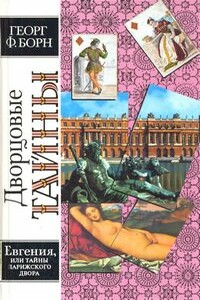
Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе.
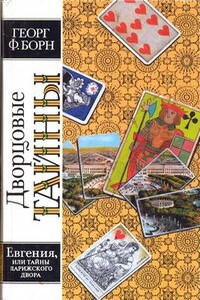
Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе.