Страбон - [3]
Отношение Страбона к нему довольно противоречиво. Отдавая должное его образованности (как сказали бы сейчас, эрудиции), проверяя с его помощью данные других источников и используя его аргументы для объяснения различных явлений, Страбон в то же время многого просто не понимает и не считает даже нужным упоминать. Пренебрегая математическим методом и разного рода сложными вычислениями, Страбон, например, забыл рассказать о знаменитом (уже тогда) методе измерения земного шара (мы знаем о нем из сочинения астронома II века н. э. Клеомеда «О круговом движении небесных тел»).
Основываясь на более поздних работах (в частности Посидония), Страбон вносит много уточнений и исправлений в карту Эратосфена, в его описания и цифры. И чем больше ошибок он отыскивает, тем подробней и детальней знакомит с подлинным текстом, дошедшим до нас в столь необычной, так сказать, негативной форме.
Наконец, Гиппарх… Величайший астроном древности, открывший явление прецессии, измеривший расстояние до Луны, рискнувший даже составить звездный каталог, включавший почти 850 небесных тел. «Этот человек, — говорили о нем, — пошел так далеко, что попытался (вещь трудная даже для бога) сообщить поколениям точное число звезд».
Именно Гиппарх настаивал на том, что география нуждается в точных астрономических наблюдениях. Он же предложил проводить на картах не две, а целый ряд взаимно пересекающихся под прямым углом линий, соответствующих определенным градусам. А так как известная тогда суша была намного длиннее с запада на восток, то эту протяженность Гиппарх назвал долготой, а расстояние с севера на юг — широтой.
Ведя в 161–126 годах до н. э. наблюдения в Александрии и на Родосе, Гиппарх внес много поправок в карту и вычисления Эратосфена. Ими с охотой воспользовался Страбон, который не всегда достаточно хорошо понимал как Гиппарха, так и Эратосфена, но честно и обильно цитировал обоих.
Страбон, таким образом, волею судеб оказался хранителем ценнейшего научного наследия античности.
Он ничего не открыл, не изобрел, не придумал. Да и не стремился к этому. Он не был, выражаясь современным языком, самостоятельным мыслителем, творческой натурой. Зато обладал невероятным терпением. Он умел собирать факты и мнения, анализировать их, приводит в систему.
Неясно, чего больше в его сочинении — географии, этнографии или истории. Оно и поныне — незаменимый справочник для всякого, кто занимается античностью. Но этого мало.
Страбон подробно — полней, чем кто-либо до и после него, — рассказал о современном ему мире. И о том, каким представляли его в разные времена разные люди. Суждения о предмете интересовали его нередко не меньше, чем самый предмет. Ибо еще древние греки понимали, что истина рождается не только в спорах, но и в поисках. Даже в заблуждениях.
Страбон именовал себя не географом и не историком, а философом. «Полезность географии предполагает в географе также философа — человека, который посвятил себя изучению искусства жить, т. е. счастья».
Так говорит он в самом начале своего произведения.
Во имя этого написана и вся его книга.
СТРАБОН РАЗМЫШЛЯЕТ
На склоне лет честолюбивые замыслы не покидали его. Он верил в свое призвание, и, вероятно, эта вера удлиняла его годы.
Он не завидовал поэтам. Рано обретая популярность, они, как правило, рано покидали этот мир. Где они, прославленные римские лирики: Катулл, Тибулл, Проперций? Сверкнули, будто метеоры, и погасли. Правда, остались взволнованные строки, которым — кто ведает? — может быть, суждено бессмертие. Но ни один из их создателей не перешагнул 35-летнего рубежа. А не менее знаменитые Вергилий, Гораций, Овидий!.. Они успели справить полувековой юбилей (Овидий дожил до 60-ти), но остались в памяти потомков молодыми. Ибо такими были их стихи, их мысли и мечты, их страсти.
Впрочем, что ж удивляться? Поэзия — это фантазия и темперамент. Их дает молодость. А Страбон, видимо, уже в юности видел в себе ученого. Не кабинетного сухаря, погруженного в пыльные свитки папирусов, а пытливого наблюдателя. Наука требовала знаний и добросовестности, терпения и спокойствия. Чтобы собрать факты, нужно время; чтобы осмыслить их, — годы, и не простые, а зрелые, умудренные опытом. Поэтами рождаются, учеными становятся. Как знать, не потому ли олимпийские боги даровали ученым долголетие? Демокрит прожил 90 лет, энциклопедист Варрон — 89, Посидоний — 85, философ Феофраст — 85, Эратосфен — 80, астроном Аристарх Самосский — 70; историки: Полибий — 80, Тит Ливий — 76, Корнелий Непот — 75.
Страбон не мог обижаться на судьбу. Почти 90 лет прожил он спокойно, размеренно и незаметно, без взлетов и падений. В политической борьбе не участвовал. Ни к каким группировкам не примыкал. Он всегда оставался благонамеренным гражданином, уважающим богов и строго следующим законам. Находясь в гуще событий, он сумел устраниться от них.
Рушились и исчезали целые царства. Теряли независимость гордые своим прошлым народы. В междоусобицах истребляли друг друга соседи, жители одного города, одного государства. Мучительно агонизируя, уходила в прошлое Римская республика. Неумолимо наступала новая эпоха — эпоха Римской империи.
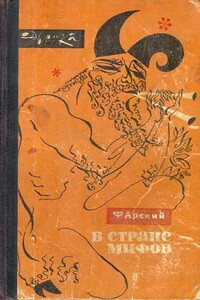
В книге рассказывается о легендах и сказочных приданиях далеких времен, и о народе, их создавшем — древних греков.
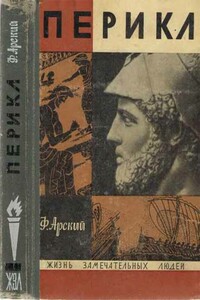
Перикл (Perikles) (около 490 до н. э., Афины, — 429 до н. э., там же), древнегреческий политический деятель, стратег (главнокомандующий) Афин в 444/443-429 до н. э. (кроме 430). Принадлежал к аристократическому роду.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.