Сторожи Москвы - [5]
После смерти Юрия Долгорукого ростовчане и суздальцы, как повествует летописец, «задумавшеся, пояша (взяли) Андрея, сына его старейшего, и посадиша и в Ростове на отни (отеческом) столе и Суждали, занеже бе любим всеми за премногую его добродетель, юже имяше преже к Богу и ко всем сущим под ним». Ему-то и довелось стать действительным строителем обновленного Москова.
Рождение Москвы связывалось еще с одним именем – полулегендарного боярина Стефана Ивановича Кучки, владевшего землями по Москве-реке и жившего в собственном селе на месте нынешних Сретинских ворот. Юрий Долгорукий воспользовался некой вымышленной или действительной провинностью Кучки, чтобы захватить его владения. Дочь боярина Улита была насильно выдана замуж за Андрея Юрьевича, но не смирилась ни с гибелью отца, ни с собственной поруганной честью. 28 июня 1174 года она приняла участие в заговоре против мужа и погибла от ран.
И вот археологическая находка наших дней, как будто вновь вызвавшая к жизни те далекие времена. На месте древнего московского кладбища, на Соборной площади Кремля, было открыто женское погребение, а в нем остатки богатейшей женской одежды. Обвивавшаяся вокруг головы шитая зелеными нитками лента – ожерелье и шитое золотом обрамление вокруг шеи. Входили они в наряд, который надевался на женщину дважды – в день свадьбы и в день похорон. Возраст знатной москвички и характер ран, от которых она умерла, позволяют предполагать, что это останки княгини Улиты Боголюбской.
В заговоре против Андрея Боголюбского, кроме княгини, приняли участие шурин князя Яким Кучков, стремившийся отомстить за смерть брата, зять шурина Петр и любимый княжеский ключник Анбал, «ясин» – родом с Кавказа. Всего заговорщиков собралось около двадцати человек. Ключник заранее спрятал меч князя, и Андрей оказался безоружным перед яростно накинувшимися на него заговорщиками.
Но даже голыми руками он долго боролся с врагами, так что им пришлось дважды добивать его. Два дня потом тело князя лежало на паперти церкви – никому не давали ни приблизиться к нему, ни войти в храм. Когда же князя – воина и строителя понесли под его стягом на погребение, народ во Владимире горько плакал.
Летопись сохранила слова верного слуги князя, киевлянина Кузьмы: «Уж и тебя, господин, и холопи твои знать не хотят; а бывало, придет ли гость из Царьграда, или из иной какой-нибудь страны, из Руси ли, латынец, христианин или поганый, ты прикажешь повести его в церковь, в ризницу, пусть посмотрит на истинное христианство и крестится, что и бывало: крестились и болгары, и жидви, и все поганые, видевшие славу Божию и украшение церковное, сильно плачут по тебе, а эти не пускают тебя в церковь положить».
Трагедия гибели Андрея Боголюбского усугубилась тем, что княжеская чета не оставила потомства. Великокняжеский престол перешел к брату Андрея. Наступили страшные годы татаро-монгольского ига.
Лаврентьевская летопись скорбно повествует о начале лихолетья: «В лето 6731 (1223)… Того же лета явились народы, их же никто толком не знает и какого они племени и откуда пришли, и что за язык их, и какого племени и какой веры; и зовут их татары, а иначе называют таумены, а другие печенеги, иные говорят, потому что о них свидетельствовал Мефодий Патарский епископ: пришли они из пустыни Егриевской, лежащей между востоком и севером; как говорит Мефодий: как к концу света… попленят всю землю от Ефрата и Тигра до Понетьского моря, кроме Ефиопии. Бог же один ведает, кто они такие и откуда пришли, премудрые мужи знают их хорошо, кто книги читать умеет; мы же не знаем, кто они есть, но здесь вписали о них ради памяти русских князей беды, которая пришла от них… А князья русские пошли и бились с ними, и побеждены были ими и едва избавились от смерти: кому была судьба жить, те бежали, а остальные были побиты…»
В 1238 году начинается нашествие хана Батыя на Москву, и у летописца не хватает слов для описания пережитого: «Татарове поидоша к Москве и взяша Москву… а люди избища от старьца до сущего младенца, а град и церкви святые огневи предаша… и много именья взямше (взяв много имущества. – Авт.), отъидоша…»
Перс Джувейни в своей «Истории завоевателя мира» говорит о разгроме города «М.к.с.», который расшифровывается исследователями как Москва, еще короче и страшнее: «Они оставили только имя его». Кроме «града», сгорели прилегающие «все монастыри и села». Это был год восшествия на великокняжеский престол отца Александра Невского – Ярослава-Федора Всеволодовича.
Успешно воевал Ярослав Всеволодович с осаждавшими Псков и Новгород немцами. И не потому ли, когда пришлось князю ехать на поклон к Батыю, Батый предпочел переправить его к самому великому хану, на берега Амура?
Тяжелой была поездка, еще тяжелее оказалось пребывание в ханской ставке. Против князя был организован заговор, и ханша подала ему за столом отравленное питье. Тяжело больным выехал Ярослав Всеволодович из ставки и на обратном пути скончался. Тело его было перевезено во Владимир и погребено в Успенском соборе. Летописец же отозвался о князе, что он «положи душу своя за други своя и за землю Русскую». Не церковью, но благодарной народной памятью причислен Ярослав Всеволодович к лику святых.
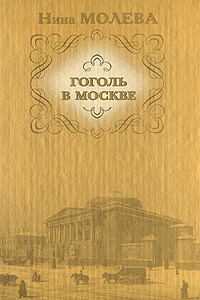
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
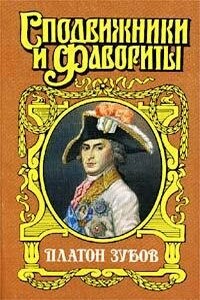
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
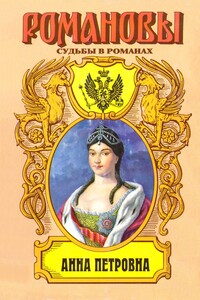
По мнению большинства историков, в недописанном завещании Петра I после слов «отдать всё...» должно было стоять имя его любимой дочери Анны. О жизни и судьбе цесаревны Анны Петровны (1708-1728), герцогини Голштинской, старшей дочери императора Петра I, рассказывает новый роман известной писательницы Нины Молевой.
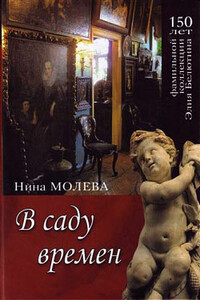
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.
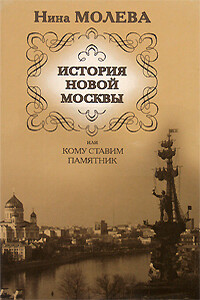
Петр I Зураба Церетели, скандальный памятник «Дети – жертвы пороков взрослых» Михаила Шемякина, «отдыхающий» Шаляпин… Москва меняется каждую минуту. Появляются новые памятники, захватывающие лучшие и ответственнейшие точки Москвы. Решение об их установке принимает Комиссия по монументальному искусству, членом которой является автор книги искусствовед и историк Нина Молева. Количество предложений, поступающих в Комиссию, таково, что Москва вполне могла бы рассчитывать ежегодно на установку 50 памятников.
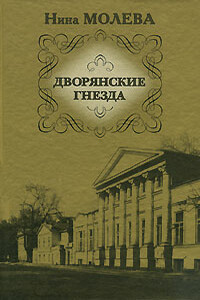
Дворянские гнезда – их, кажется, невозможно себе представить в современном бурлящем жизнью мегаполисе. Уют небольших, каждая на свой вкус обставленных комнат. Дружеские беседы за чайным столом. Тепло семейных вечеров, согретых человеческими чувствами – не страстями очередных телесериалов. Музицирование – собственное (без музыкальных колонок!). Ночи за книгами, не перелистанными – пережитыми. Конечно же, время для них прошло, но… Но не прошла наша потребность во всем том, что формировало тонкий и пронзительный искренний мир наших предшественников.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.