Столешница столетий - [12]
…Почему эта женщина, чьё скорбно-суровое обличье отчуждало её от многих людей, сразу же отнеслась ко мне с таким теплом? Этого я уже никогда не узнаю теперь. Ираклея исчезла — ровно и не встречалась мне никогда… И вспомнилась-то она через много лет вовсе не в связи с церковно-религиозной областью бытия, совсем наоборот. В зените своей молодости я испытал бедствие, которое любовью было можно назвать с трудом: столько болезненно-лютых мук плоти, смешанных с муками души и рассудка почти до умопомрачения, стали сущностью этого чувства. Женщина, ввергнувшая меня в ту сладко-огненную пучину, всё время мне кого-то напоминала — не только внешне, огромными очами, чей цвет менялся от ультрамарина до антрацитной черноты, не только иконописным своим лицом. Но и способностью менять своё состояние почти мгновенно: только что была каменно-сурова, и вот она уже обволакивает тебя солнечным теплом своих ласковых слов и взглядов… И только когда обоим стало ясно, что от впадения в настоящее безумие, а то и от гибели нас обоих спасёт только разрыв, и когда он произошёл — вот тогда-то вдруг и вспомнил я ту, кого она мне напоминала. Ту „дальнюю тётку“ свою, которую окружающие звали — мать Ираклея.
Думается, побудь я под её опекой ещё неделю — мне точно была бы уготована лишь одна дорога в жизни: стать священнослужителем. Но не суждено было нашей Русской Церкви обрести меня ни в качестве отца благочинного, ни в монашеском чине. Я остался мирянином советского, а теперь уже и постсоветского времени. Потому что на четвёртый день моего гостевания в доме Ираклеи к ней самым ранним утром заявилась баба Дуня и увела меня с собой. И по дороге она мне сообщила, что не только она сама выздоровела, отпустил её „прострел“, но и мои дед с бабушкой тоже уже близки к полной поправке. Я же в ответ с торжеством в голосе объявил её, что это произошло благодаря моим молитвам за них, болезных. Тут баба Дуня даже остановилась в удивлении. „Ну, мать Ираклея, — воскликнула она, — ну, постаралась! Ладно, бабка твоя, она сама почти что неверуха, но я-то тебя ить тоже, бывало, и нянчила, и не по разу в дом брала — а ни единой молитовке тебя не обучила, уж думавши была: не держатся они в головёнке-то твоей… А тут на тебе — наизусть робёнок их сколь подряд запомнил, и всего-то двое-трое дён прошло… Ну, мать Ираклея, во, кудесница, ключик подобрала к тебе! Да только боюся я теперь: как бы Шурка не заругался на меня за это воспитанье-то богомольное, не дай Бог, если дойдёт до начальства ихнего, родителей твоих, что дитёнок у них леригиозный стал… Ну, Ираклея!“
Шурка — это мой отец. Он не „заругался“. Произошло иное — то, над чем сегодня можно лишь поулыбаться, хотя и с грустью думая о миропорядке наших давних лет. Однако было кое-кому в тот день не до смеха.
Кое-кто — это был ещё один родственник наш, в доме которого я в тот день оказался волею бабы Дуни. Точно так же, как мне осталось непонятным, почему она определила меня на несколько дней под опеку „нещадной богомолки“ Ираклеи (ведь сама опасалась последствий этого), не могу я до сих пор понять, как и почему рискнула она отвести меня, пусть и совсем ненадолго, в дом того родственника. Именно рискнула! Вообще-то моя двоюродная бабка, хоть и остра была на язык, славилась как раз своим здравомыслием. А тут на неё словно какая-то жажда риска нашла…
Ведь тот представитель нашей родовы, у которого я оказался в доме после гостевания у Ираклеи, представлял её, по-нынешнему говоря, в эшелонах власти, пусть и скромное место он там занимал. Но всё же работал он в Доме Советов, белокаменном дворце николаевских времён, с фасада очень похожем на Смольный; в этом здании после войны размещалась вся талабская власть, и областная, и городская, и партийная, и советская. (Нынче там губернской верхушке и то тесно одной). Словом, состоял там наш родич „при должности“, „при портфеле“, и действительно, всегда носил с собой здоровенный дерматиновый портфель — и, помнится, называл он этот свой атрибут своего служебного положения с ударением на первом слоге, „пОртфель“. Аешё он носил защитного цвета френч и такого же цвета фуражку с матерчатым козырьком. И, разумеется, носил усы… Но при всём этом обличьи не получалось у него быть хоть капельку похожим на вождя, чьи портреты тогда красовались повсюду. Ну, никакого сходства достичь не удавалось: голова со всех сторон ещё буйно кудрявилась, а вот со лба „дядя Портфель“ (так я его стал звать про себя) начал до времени сильно лысеть, и нос у него, хоть и с горбинкой и неслабого размера, напоминал собою здоровенную морковку. А усы… тут уж лучше не описывать их: жиденькие были усишки.
Но, хоть и не походил на вождя этот советско-партийный служащий низового звена, всё равно в родове он пользовался уважением. Как же! из наших — и „при властях“… По крайней мере, с моими дедом и отцом он, как я понял чуть позже, не только не задирал нос, напротив: с него мигом слетала вся его напускная важность, которой он старался компенсировать отсутствие у него начальственного вида. А степень его родства с нами у него была весьма весьма условной, баба Дуня её так определила: „У деда твоего, Николая, брательник есть, так это того брательника племяш…“ То есть, происходил „дядя Портфель“ вообще не из того „куста“ семейств, которые были напрямую соединены кровными узами с нашим, а из гораздо более дальнего, связанного с нами по одной из многих цепочек родовы. Но всё равно — свой, не чужой. Родство помнящий и почитающий… И единственной причиной, по которой я оказался у него в доме, могло быть, думается, только то, что по мысли бабы Дуни мои родители, которые наконец-то должны были в тот день приехать в Талабск из своей глубинной деревни, будут более спокойны, если увидят своё чадо „под крылом“ этого ответственного товарища, а не в ином доме и уж, разумеется, не под опекой „матери Ираклеи“. Так, я полагаю, должна была рассуждать моя логически мыслящая двоюродная бабушка. Но она всё-таки просчиталась в тот раз…
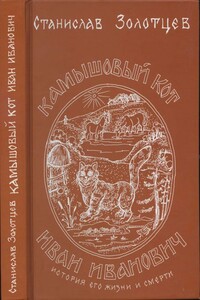
Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.(задняя сторона обложки)Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом.
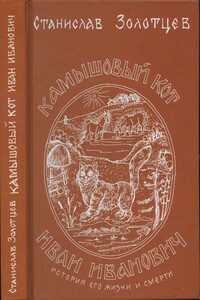
Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.(задняя сторона обложки)Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Яркий литературный дебют: книга сразу оказалась в американских, а потом и мировых списках бестселлеров. Эмира – молодая чернокожая выпускница университета – подрабатывает бебиситтером, присматривая за маленькой дочерью успешной бизнес-леди Аликс. Однажды поздним вечером Аликс просит Эмиру срочно увести девочку из дома, потому что случилось ЧП. Эмира ведет подопечную в торговый центр, от скуки они начинают танцевать под музыку из мобильника. Охранник, увидев белую девочку в сопровождении чернокожей девицы, решает, что ребенка похитили, и пытается задержать Эмиру.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.