Стихотворения. Рассказы. Повести - [176]
Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:
— Посиди возле меня, Битик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное… Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами…
Я, втайне раздражаясь, отвечал:
— Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.
Она била меня по руке:
— Не смей возражать больной!
Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христя понесла со стола самовар в поварскую:
— Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.
— Я скучаю только без вас, — ответил я. — Когда вас нет…
Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:
— Но мы же условились не ссориться больше… Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись, ночь будет прекрасная…
— Соне меня жаль, а вам? Нисколько?
— Страшно жаль, — ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. — Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать…
При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, блестела половина его, не сулившая ничего доброго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вместе напоминало желудь.
За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, — я сказал улану:
— Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.
— Почему, мой друг?
— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас…
— Это почему?
Натали тоже вскинула на меня глаза:
— Вы собираетесь уезжать?
Я притворно засмеялся:
— Не могу же я…
Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:
— Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.
— Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, — сказала Натали.
Я жалобно воскликнул:
— Дядя, запретите Натали называть меня так!
Улан хлопнул ладонью по столу:
— Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.
— В поле было уже слишком чисто, ясно, — сказал я. — И месяц очень чист и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака…
Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:
— Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс>{94}…
В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные… Молодой месяц играл все выше и ярче в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:
— Вы еще не спите?
— Но вы же мне сказали…
— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.
Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:
— Как волшебно блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине…
Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами;
— Вы правда уезжаете?
— Да, пора.
— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь; вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.
— Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?
Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.
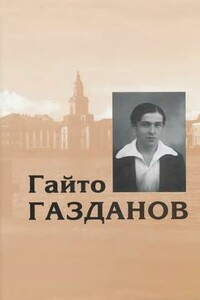
В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
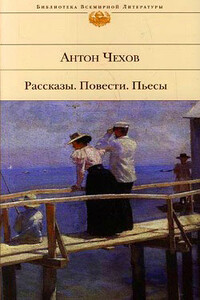
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
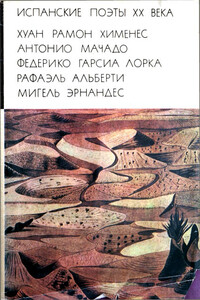
Испанские поэты XX века:• Хуан Рамон Хименес,• Антонио Мачадо,• Федерико Гарсиа Лорка,• Рафаэль Альберти,• Мигель Эрнандес.Перевод с испанского.Составление, вступительная статья и примечания И. Тертерян и Л. Осповата.Примечания к иллюстрациям К. Панас.* * *Настоящий том вместе с томами «Западноевропейская поэзия XХ века»; «Поэзия социалистических стран Европы»; «И. Бехер»; «Б. Брехт»; «Э. Верхарн. М. Метерлинк» образует в «Библиотеке всемирной литературы» единую антологию зарубежной европейской поэзии XX века.
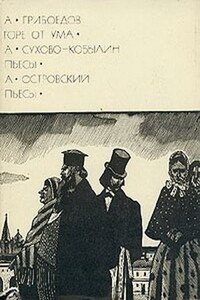
В том 79 БВЛ вошли произведения А. Грибоедова («Горе от ума»); А. Сухово-Кобылина («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина») и А. Островского («Свои люди — сочтемся!», «Гроза», «Лес», «Снегурочка», «Бесприданница», «Таланты и поклонники»). Вступительная статья и примечания И. Медведевой. Иллюстрации Д. Бисти, А. Гончарова.

"Американская трагедия" (1925) — вершина творчества американского писателя Теодора Драйзера. В ней наиболее полно воплотился талант художника, гуманиста, правдоискателя, пролагавшего новые пути и в литературе и в жизни.Перевод с английского З. Вершининой и Н. Галь.Вступительная статья и комментарии Я. Засурского.Иллюстрации В. Горяева.

Основным жанром в творчестве Г. Манна является роман. Именно через роман наиболее полно раскрывается его творческий облик. Но наряду с публицистикой и драмой в творческом наследии писателя заметное место занимает новелла. При известной композиционной и сюжетной незавершенности новеллы Г. Манна, как и его романы, привлекают динамичностью и остротой действия, глубиной психологической разработки образов. Знакомство с ними существенным образом расширяет наше представление о творческой манере этого замечательного художника.В настоящее издание вошли два романа Г.Манна — «Учитель Гнус» и «Верноподданный», а также новеллы «Фульвия», «Сердце», «Брат», «Стэрни», «Кобес» и «Детство».