Стихотворения - [13]
Так, Вяч. Иванов видел в скрытом мистицизме ряда стихотворений и прозаических вещей Кузмина то откровение, которое достигается путем индивидуального потаенного знания, молитвы, мистических озарений. По Иванову, такое откровение могло оказаться поучительным и для других людей, а стало быть, Кузмин оценивался как потенциальный член некоей гипотетической общины людей, объединенных этими знаниями и опытом.
Но для самого Кузмина подобные попытки не могли не выглядеть заранее обреченными на неуспех, потому что частный, индивидуальный опыт религиозного переживания действительности, вынесенный в качестве образца пусть для сравнительно немногих людей, представлялся ему профанированным и тем самым лишенным всякого смысла. Тайна остается действенной до тех пор, пока она тайна, а не предмет разглагольствований и «мозгологства», как сам Кузмин и некоторые его друзья определяли прихотливые изгибы ивановских бесед.
В каком-то смысле ему более близка была позиция Брюсова, не требовавшего потаенной сложности и вполне удовлетворенного уже реализованными возможностями Кузмина-поэта[47]. Но и позиция Брюсова устраивала его далеко не полностью, и главной причиной тому была брюсовская ориентация на сугубо литературную систему ценностей, замкнутость в пределах книжно-журнальной полемики. Не могла не раздражать и поза мэтра, бесстрастно судящего своих современников и раздающего неопровергаемые оценки. Насколько можно судить по дневнику и критическим статьям Кузмина, особой ценностью для него обладало искусство, наделенное большой внутренней свободой, той свободой, которая легко выражается в неправильностях, небрежности, незавершенности, которая позволяет писателю с равной степенью легкости быть цельным и расколотым, мистиком и реалистом, — одним словом, наиболее соответствовать природе своего дарования.
Источники такого отношения к творчеству еще нуждаются в определении, отдельные точные наблюдения[48] должны быть сложены в единую систему, но уже и сейчас ясно, что в основе этого отношения у Кузмина лежит глубоко осознанный и переработанный сугубо индивидуальный опыт, понимаемый как нерасчлененное и нерасчленимое единство личности, выражающей себя в произведении.
Из этого же исходит и определение Кузминым собственной литературной позиции. До тех пор пока на его творческую индивидуальность никто не посягает, он вполне спокойно соседствует с каким-либо другим писателем, теоретиком, литературной группой и пр., но как только начинаются попытки вмешательства в естественное развитие поэтической личности — происходит бунт, ведущий к пересмотру любых позиций, какими бы прочными они ни казались.
Именно этим, по всей вероятности, определяется последовательное отчуждение Кузмина ото всех литературных направлений и группировок, заинтересованных в том, чтобы иметь в своих рядах такого незаурядного поэта.
Типичным примером подобного расхождения является разрыв Кузмина с Вяч. Ивановым. Сугубо личные причины[49] были, скорее всего, лишь внешним выражением глубокого внутреннего недовольства Кузмина той открыто идеологической полемикой, в которую он (видимо, помимо своей воли) оказался втянут. Повод был достаточно незначительным: при публикации в журнале «Труды и дни» его рецензии на сборник Иванова «Cor Ardens» редакцией был урезан ее конец, что вызвало возмущение как Иванова, так и самого Кузмина. Надо сказать, что в этой утраченной фразе не было ничего принципиального[50], но всю создавшуюся ситуацию Кузмин решил использовать, чтобы решительно размежеваться с позицией журнала, четко определившейся уже в первом его номере. За отдельными частными пунктами полемики отчетливо просматривается главное — несогласие видеть в русском символизме единственного законного наследника всей мировой литературы, на чем решительно настаивали многие авторы первого номера «Трудов и дней». В письме в редакцию журнала «Аполлон», даже не уточняя, о какой именно фразе, снятой в печати, идет речь, Кузмин решительно говорит: «Как ни неприятно „Трудам и дням“, но школа символистов явилась в 80-х годах во Франции и имела у нас первыми представителями Брюсова, Бальмонта, Гиппиус и Сологуба. Делать же генеалогию: Данте, Гете, Тютчев, Блок и Белый — не всегда удобно, и выводы из этой предпосылки не всегда убедительны»[51]. Хотя имя Иванова было устранено из письма, он не мог не принять многого из того, что произнес Кузмин, на свой счет, и личная ссора была таким образом возведена к более серьезным и значительным для литераторов расхождениям в эстетике и идеологии.
По аналогичной схеме во многом строились отношения Кузмина с другим сообществом литераторов, в члены которого его нередко записывают и до сих пор. Акмеист Кузмин или нет — споры об этом шли и идут в литературе с давних пор. Определение, данное ему В. М. Жирмунским, — «последний русский символист»[52], - не учитывает индивидуальной реакции Кузмина на любые попытки присоединить его к программным выступлениям символистов, являясь только типологическим определением, да и то в рамках концепции самого Жирмунского. Но нисколько не более обоснованны и попытки сблизить Кузмина с акмеизмом. Уже не раз цитировались резкие определения, которые Кузмин в различных статьях давал этой группе, и опровергнуть таким образом мнение о Кузмине-акмеисте очень легко. Но гораздо более существенным и поучительным является рассмотрение его схождений и расхождений с акмеистами в контексте литературного процесса эпохи.

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
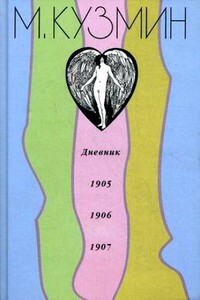
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Жизнь и судьба одного из замечательнейших полководцев и государственных деятелей древности служила сюжетом многих повествований. На славянской почве существовала «Александрия» – переведенный в XIII в. с греческого роман о жизни и подвигах Александра. Биографическая канва дополняется многочисленными легендарными и фантастическими деталями, начиная от самого рождения Александра. Большое место, например, занимает описание неведомых земель, открываемых Александром, с их фантастическими обитателями. Отзвуки этих легенд находим и в повествовании Кузмина.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая». Вместе с тем само по себе яркое, солнечное, жизнеутверждающее творчество М. Кузмина, как и вся литература начала века, не свободно от болезненных черт времени: эстетизма, маньеризма, стилизаторства.«Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» – первая книга из замышляемой Кузминым (но не осуществленной) серии занимательных жизнеописаний «Новый Плутарх».

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».«Путешествия сэра Джона Фирфакса» – как и более раннее произведение «Приключения Эме Лебефа» – написаны в традициях европейского «плутовского романа». Критика всегда отмечала фабульность, антипсихологизм и «двумерность» персонажей его прозаических произведений, и к названным романам это относится более всего.

Творчество В.Г. Шершеневича (1893–1942) представляет собой одну из вершин русской лирики XX века. Он писал стихи, следуя эстетическим принципам самых различных литературных направлений: символизма, эгофутуризма, кубофутуризма, имажинизма. В настоящем издании представлены избранные стихотворения и поэмы Вадима Шершеневича — как вошедшие в его основные книги, так и не напечатанные при жизни поэта. Публикуются фрагментарно ранние книги, а также поэмы. В полном составе печатаются книги, представляющие наиболее зрелый период творчества Шершеневича — «Лошадь как лошадь», «Итак итог», отдельные издания драматических произведений «Быстрь» и «Вечный жид».

«… Мережковский-поэт неотделим от Мережковского-критика и мыслителя. Его романы, драмы, стихи говорят о том же, о чем его исследования, статьи и фельетоны. „Символы“ развивают мысли „Вечных Спутников“, „Юлиан“ и „Леонардо“ воплощают в образах идеи книги о „Толстом и Достоевском“, „Павел“ и „Александр I и декабристы“ дают предпосылки к тем выводам, которые изложены Мережковским на столбцах „Речи“ и „Русского Слова“. Поэзия Мережковского – не ряд разрозненных стихотворений, подсказанных случайностями жизни, каковы, напр., стихи его сверстника, настоящего, прирожденного поэта, К.

Книга представляет собой самое полное из изданных до сих пор собрание стихотворений поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. Она содержит произведения более шестидесяти авторов, при этом многие из них прежде никогда не включались в подобные антологии. Антология объединяет поэтов, погибших в первые дни войны и накануне победы, в ленинградской блокаде и во вражеском застенке. Многие из них не были и не собирались становиться профессиональными поэтами, но и их порой неумелые голоса становятся неотъемлемой частью трагического и яркого хора поколения, почти поголовно уничтоженного войной.

Александр Галич — это целая эпоха, короткая и трагическая эпоха прозрения и сопротивления советской интеллигенции 1960—1970-х гг. Разошедшиеся в сотнях тысяч копий магнитофонные записи песен Галича по силе своего воздействия, по своему значению для культурного сознания этих лет, для мучительного «взросления» нескольких поколений и осознания ими современности и истории могут быть сопоставлены с произведениями А. Солженицына, Ю. Трифонова, Н. Мандельштам. Подготовленное другом и соратником поэта практически полное собрание стихотворений Галича позволяет лучше понять то место в истории русской литературы XX века, которое занимает этот необычный поэт, вместе с В.