Стихотворения и поэмы - [51]
1965
111. ЦИРК
1965
112. ПРОШЛОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
1965
113. ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ
1965
114. РАБОЧИЙ ДЕНЬ
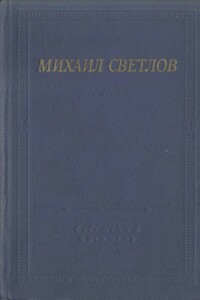
В книге широко представлено творчество поэта-романтика Михаила Светлова: его задушевная и многозвучная, столь любимая советским читателем лирика, в которой сочетаются и высокий пафос, и грусть, и юмор. Кроме стихотворений, печатавшихся в различных сборниках Светлова, в книгу вошло несколько десятков стихотворений, опубликованных в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов и фактически забытых, а также новые, еще неизвестные читателю стихи.

В эту книгу вошли произведения крупнейших белорусских поэтов дооктябрьской поры. В насыщенной фольклорными мотивами поэзии В. Дунина-Марцинкевича, в суровом стихе Ф. Богушевича и Я. Лучины, в бунтарских произведениях А. Гуриновича и Тетки, в ярком лирическом даровании М. Богдановича проявились разные грани глубоко народной по своим истокам и демократической по духу белорусской поэзии. Основное место в сборнике занимают произведения выдающегося мастера стиха М. Богдановича. Впервые на русском языке появляются произведения В. Дунина-Марцинкевича и A. Гуриновича.

Основоположник критического реализма в грузинской литературе Илья Чавчавадзе (1837–1907) был выдающимся представителем национально-освободительной борьбы своего народа.Его литературное наследие содержит классические образцы поэзии и прозы, драматургии и критики, филологических разысканий и публицистики.Большой мастер стиха, впитавшего в себя красочность и гибкость народно-поэтических форм, Илья Чавчавадзе был непримиримым врагом самодержавия и крепостнического строя, певцом социальной свободы.Настоящее издание охватывает наиболее значительную часть поэтического наследия Ильи Чавчавадзе.Переводы его произведений принадлежат Н. Заболоцкому, В. Державину, А. Тарковскому, Вс. Рождественскому, С. Шервинскому, В. Шефнеру и другим известным русским поэтам-переводчикам.
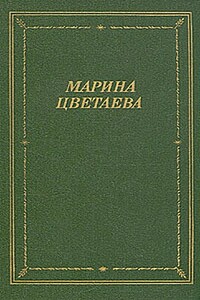
Объявление об издании книги Цветаевой «Лебединый стан» берлинским изд-вом А. Г. Левенсона «Огоньки» появилось в «Воле России»[1] 9 января 1922 г. Однако в «Огоньках» появились «Стихи к Блоку», а «Лебединый стан» при жизни Цветаевой отдельной книгой издан не был.Первое издание «Лебединого стана» было осуществлено Г. П. Струве в 1957 г.«Лебединый стан» включает в себя 59 стихотворений 1917–1920 гг., большинство из которых печаталось в периодических изданиях при жизни Цветаевой.В настоящем издании «Лебединый стан» публикуется впервые в СССР в полном составе по ксерокопии рукописи Цветаевой 1938 г., любезно предоставленной для издания профессором Робином Кембаллом (Лозанна)