Стихотворения и поэмы - [4]
Внутри романтической традиции общий вектор их движения — в сторону простоты. «Свинчивание» стиха — скорее деловая умелость, чем эстетическая изобретательность. Ораторская установка тяготеет уже не к митинговой экзальтации, а к разговорной доверительности. Сдвиг к простоте — общая тенденция; неясны еще только формы, которые эта простота должна обрести.
Одна простая поэтическая форма, впрочем, уже стремительно набирает силу на другом конце поэзии — народный стих А. Твардовского. «Страна Муравия» уже написана, «Теркину» предстоит вскоре родиться. Но этот стих уже за пределами романтической традиции и за пределами восприятия той поэтической волны, которая бушует на семинарах 1939 года: как раз и показательно, что по пути Твардовского отказывается идти не только Павел Коган, признанный публицист и поэтический идеолог своего поколения, не только М. Кульчицкий с его неистовым формотворчеством — это-то не удивительно, но по пути Твардовского не идет и Луконин, который, казалось бы, и жизненным опытом, и психологическим складом должен тяготеть к народным корням, — именно Твардовский становится для Луконина на все годы главным поэтическим «антиподом», в сопоставлении с которым Луконин осознает свои «углы» и свою интонационную «нестройность». Гармония не суждена этому поколению. Все они ищут новый стиль, но ни один не может перейти грань, которую очертила им общая судьба. И в жизни, и в поэзии.
Внутри поколения есть близкие оппоненты, в контакте с которыми вызревает луконинская стиховая интонация. Один из них — Павел Коган, лидер молодых поэтов ИФЛИ, восходящее светило семинара Сельвинского. Именно Коган, рационалист и систематик, пытается выразить целостную систему воззрений, которую вынашивают прямые и чистые «мальчики державы», «лобастые мальчики невиданной революции»,[8] эти граждане грядущего коммунистического братства, далекие и от «земли», и от «вечности», ненавидящие всякую красивость и смутность, безостаточно преданные четкой, ясной и простой, великой планетарной правде.
Луконин — из того же материала, хотя склонен не к космической систематике и мировому охвату, а к непосредственной правде переживаемых состояний (все последующие обширные его поэмы — тоже ведь не возведение модели мироздания, а упрямое перемалывание впечатлений). Не эпический портрет и не идейный чертеж поколения суждено дать Луконину, а психологический срез, но это то же самое ощущение всечеловеческого единства, о котором все они говорят «космическими» словами: «земшарец», «планета», «мир». Луконин тоже носит в себе «земшарный» образ целого и в свой черед тоже даст ему толкование, но чисто пластическое: в стихах об окружение («Воспоминание о 1941 годе»), который выходит к своим по школьной карте полушарий: «несет из окруженья шар земной…»
Все они предчувствуют близкую судьбу и пишут о «смертных реляциях», в которые внесено поколение. И у всех у них ощущение смерти не как конца и небытия, а уникальное, удивительное ощущение смерти как счастья, как исполнения долга и предназначения, смерти как разрешения героической задачи.
Луконин выражает это чувство прямодушно. Он пишет о возможной смерти, в сущности не думая о ней как о конце, с одинаковым спокойствием говоря: «вот и я умру когда-нибудь» или: «вот почему я не умру».[9] Не эту ли необъяснимую радость жизни, не желающей знать конца, заметил умудренный опытом Андрей Платонов и горько усмехнулся про себя.[10]
Павел Коган успевает не много. Чертеж души. Тонкий оттиск. Странный контур. Прямой, твердый, угловатый стих, в котором еще вибрирует мечта мальчишеская. Хрупкая прозрачность души. Готовность вынести свинцовую тяжесть и — слабость детских, «худеньких рук». Самый стих Когана, вызывающе прямой, — как ожидание. Его еще пошатывает. Интонация всплывает неожиданно, в ней нет поэтической программы.
Не Когану суждено найти новую интонацию и осуществить ее как принцип. Суждено — Луконину. Но он еще не знает этого.
В его близком окружении есть поэт, который уже нащупал, нашел, угадал ту форму, в которую должен уложиться нависший над людьми опыт, — к этому опыту он уже успел сам прикоснуться на Халхин-Голе: Константин Симонов. Логикой вещей они должны сойтись — дипломник Литинститута, автор нескольких блестящих поэтических сборников, и приехавший с Волги дебютант. Оба твердо знают, какой не должна быть поэзия, оба отвергают традиционную патентованную поэтичность, оба чувствуют: сегодня стихам нужна «проза». Две кардинальные образные концепции подступающей военной эпохи примеряются друг к другу.
Впоследствии Симонов признает влияние Луконина на свои стихи. Признает и другое: что они пошли разными дорогами. «Я обманул его ожидания».[11] Вариант Симонова — простая, четкая, скупая на внешние эмоции, строго и ясно работающая повествовательность. Луконин вынашивает иное… Но оба ждут, когда час пробьет.
Летом 1939 года Луконин едет в Сталинград и к началу занятий возвращается в Литинститут. Вместе с Турочкиным. А уже в декабре — вместе же — они бегут в военкомат: боятся, что с белофиннами управятся без них…
Война оказывается непоэтичной. До вихревых атак дело не доходит: попавшие в лыжный батальон студенты замерзают, выбиваясь из сил во время длинных переходов. Не победными бросками и не оперативными стрелами встает война, она оборачивается изматывающей работой, тесным бытом передовой, прежде пуль она бьет ледяной каждодневностью, тупой стихийной силой. Об этой войне невозможно рассказать светлыми романтическими словами. Надо искать другие слова.

В. Ф. Раевский (1795–1872) — один из видных зачинателей декабристской поэзии, стихи которого проникнуты духом непримиримой вражды к самодержавному деспотизму и крепостническому рабству. В стихах Раевского отчетливо отразились основные этапы его жизненного пути: участие в Отечественной войне 1812 г., разработка и пропаганда декабристских взглядов, тюремное заключение, ссылка. Лучшие стихотворения поэта интересны своим суровым гражданским лиризмом, своеобразной энергией и силой выражения, о чем в 1822 г.

В эту книгу вошли произведения крупнейших белорусских поэтов дооктябрьской поры. В насыщенной фольклорными мотивами поэзии В. Дунина-Марцинкевича, в суровом стихе Ф. Богушевича и Я. Лучины, в бунтарских произведениях А. Гуриновича и Тетки, в ярком лирическом даровании М. Богдановича проявились разные грани глубоко народной по своим истокам и демократической по духу белорусской поэзии. Основное место в сборнике занимают произведения выдающегося мастера стиха М. Богдановича. Впервые на русском языке появляются произведения В. Дунина-Марцинкевича и A. Гуриновича.
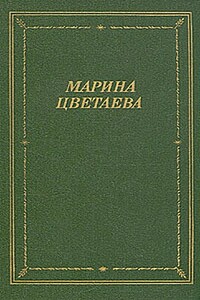
Объявление об издании книги Цветаевой «Лебединый стан» берлинским изд-вом А. Г. Левенсона «Огоньки» появилось в «Воле России»[1] 9 января 1922 г. Однако в «Огоньках» появились «Стихи к Блоку», а «Лебединый стан» при жизни Цветаевой отдельной книгой издан не был.Первое издание «Лебединого стана» было осуществлено Г. П. Струве в 1957 г.«Лебединый стан» включает в себя 59 стихотворений 1917–1920 гг., большинство из которых печаталось в периодических изданиях при жизни Цветаевой.В настоящем издании «Лебединый стан» публикуется впервые в СССР в полном составе по ксерокопии рукописи Цветаевой 1938 г., любезно предоставленной для издания профессором Робином Кембаллом (Лозанна)
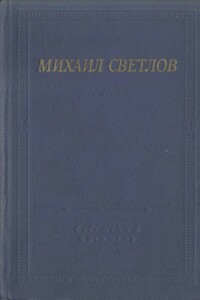
В книге широко представлено творчество поэта-романтика Михаила Светлова: его задушевная и многозвучная, столь любимая советским читателем лирика, в которой сочетаются и высокий пафос, и грусть, и юмор. Кроме стихотворений, печатавшихся в различных сборниках Светлова, в книгу вошло несколько десятков стихотворений, опубликованных в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов и фактически забытых, а также новые, еще неизвестные читателю стихи.