Стихотворения и поэмы - [10]
Ситуация меняется медленно, но неотвратимо. В начале пятидесятых годов К. Ваншенкин и Е. Винокуров резко сбивают тембр «фронтовой лирики», погружают стих в непривычную повседневность, ставят в центр внимания обыкновенного, полного слабостей человека. Во второй половине пятидесятых годов Б. Слуцкий и Д. Самойлов высвечивают драму этого человека жестким светом исторической, «державной» логики. На рубеже шестидесятых годов Б. Окуджава начинает слагать маленькому солдату большой войны сентиментальный реквием, пронзительная печаль которого уже совершенно не совмещается с мироощущением луконинского героя, привыкшего чувствовать себя победителем.
Слишком упрямый, чтобы прислушиваться к веяниям, Луконин продолжает гнуть свое. Он злится, когда его лирику ставят в новый контекст: после смерти Гудзенко Луконин словно бы утрачивает непосредственное чувство поколения, он не хочет, чтобы критики загоняли его лирику в какое бы то ни было «течение»! Каждую новую книгу свою: и «Стихи дальнего следования» (1956), где собрана лирика первой половины пятидесятых годов, и «Преодоление» (1964), где собраны стихи второй половины десятилетия, и начатое в шестидесятые годы «Испытание на разрыв» (1966) — он демонстративно ставит поперек потока, наперекор поэтической «моде». Это драма победителя, у которого незаметно уходит почва из-под ног, а он упрямо держится привычных точек опоры, потому что не знает другой вселенной, кроме той, которую знает: прочную, устойчивую и надежную. Он не хочет писать изменчивое время и исповедь «меняющейся души» — его влечет ширь и эпичность мира.
Наверное, шестым чувством он все-таки понимает, что пишет исповедь души и что именно лирическим вкладом останется в истории своего поколения, а тем самым — в истории русской лирики. Но Луконина смутно беспокоит «узость» такой исповеди. И потому всю жизнь, оставаясь признанным правофланговым чисто лирического фронта, он упрямо и неотступно пишет поэмы.
Поэмы — предмет его непрестанного ревнивого беспокойства: «Я знаю, есть читатели и критики, которые не воспринимают моих поэм… Я и не рассчитывал на общее признание, знал, что популярным не буду…»[28]
У Луконина имелись основания сомневаться в читательском эффекте его поэм. Критики, как правило, отдавали им должное. Но даже самые доброжелательные из них оговаривали свои сомнения по части читабельности этих огромных полотен. Никто не сомневался в том, что Луконин мог бы сделать их более легкими для чтения. Он не хотел.
Может, он и был прав. Как нельзя вообще «переиграть жизнь», так и в данном случае нельзя представить себе, что было бы, если бы Луконин нашел для своих поэм более легкую форму. Возможно, они просто рассыпались бы.
Есть своеобразный драматизм в самой истории их создания: официальные поздравления критики никогда не могли обмануть Луконина: всю жизнь подозревая читательский неуспех своих эпических детищ, он всю жизнь продолжал считать их главным делом. Не только из упрямства конечно, хотя без упрямства Луконин не был бы Лукониным, а из того непреложного обстоятельства, что он по внутреннему самоощущению, по изначальному бытийному заданию всегда чувствовал себя человеком эпоса. Человеком, в чьей личной судьбе адекватно выявляется логика мира. Человеком, в сознании которого мир вообще непременно имеет логику, цель и путь к цели.
В этом смысле Луконин тяготеет к старшим поколениям, для которых эпос всегда был на первом месте. С некоторой долей преувеличения рискну все-таки сказать, что та поэтическая генерация, которую мы прямо и непосредственно соотносим с солдатской поэзией Великой Отечественной войны, дает русской литературе прежде всего лирическую и драматическую картины мира. Коротко говоря, это судьба солдата, а не панорама событий. Чуть раньше, чуть старше — и уже именно эпос, именно поэма решающий жанр: при именах А. Твардовского и А. Недогонова, М. Алигер и К. Симонова прежде всего возникает мысль об их поэмах… Чуть позже, чуть моложе — и у послевоенных романтиков восстанавливается неповрежденно целостная модель мироздания: с поэм начинается Василий Федоров, от поэмы к поэме развиваются Р. Рождественский, Е. Евтушенко, В. Фирсов, А. Вознесенский…
Но нет поэм у Б. Слуцкого, нет у Е. Винокурова; никто не запомнил поэм А. Межирова и К. Ваншенкина; никто не поставит на первое место перед лирикой поэмы С. Гудзенко или С. Орлова. Никто не скажет, что в лирике Д. Самойлова продолжен строй его поэм, но все согласятся, что в его поэмах (точнее, исторических балладах и драмах) продолжен строй его лирики. Характерно и то, что внутри «солдатской волны» к эпическому жанру тянутся те, кто постарше, кто успел, подобно М. Кульчицкому, С. Наровчатову и П. Когану, начать картину в предвоенной, предгрозовой тиши, — те, кто стоит на рубеже поколений.
На рубеже и Луконин. И если всею реальной судьбой его выносит в волну солдатской лирики, то первоначальным опытом он тянется к тому берегу, на котором сделаны первые шаги: поэтический «генофонд» Луконина определенно эпичен.
От этого-то «с самого начала меня тянуло к поэмам». Первое, что написано, — поэма о футболе. Под одной из первых сталинградских публикаций — пометка: «Из поэмы „Симфония“» (поэма посвящена событиям гражданской войны). Первые годы в Москве — две поэмы. «Поэма нескольких дней» — как сам Луконин определяет, «лирически личная» (журнал «Знамя» берет ее, но не публикует: наступает 22 июня 1941 года). Другая поэма, привезенная Лукониным из Карелии, называется «Вступление», он ее в журнал отдать не успевает и берет с собой на фронт (она-то и сгорает в грузовике под Негино). «Поэма нескольких дней» тоже пропадает: в 1943 году, во время одного из переездов, в эшелоне, вместе с вещмешком. Судьба словно испытывает его настойчивость: весной 1945 года в Восточной Пруссии, снимаясь с постоя, Луконин опять забывает вещмешок. Под Штеттином, хватившись, разворачивает машину, гонит назад… находит — «на рояле в дымящемся доме». В вещмешке — главы «Дороги к миру». Через месяц, уже после Победы, Луконин в Москве читает эти главы Семену Гудзенко. Сидят на подоконнике. Майский ветер рвет из рук рукопись, несколько листов летят вниз с восьмого этажа.
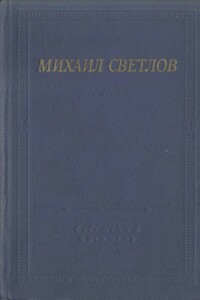
В книге широко представлено творчество поэта-романтика Михаила Светлова: его задушевная и многозвучная, столь любимая советским читателем лирика, в которой сочетаются и высокий пафос, и грусть, и юмор. Кроме стихотворений, печатавшихся в различных сборниках Светлова, в книгу вошло несколько десятков стихотворений, опубликованных в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов и фактически забытых, а также новые, еще неизвестные читателю стихи.

В эту книгу вошли произведения крупнейших белорусских поэтов дооктябрьской поры. В насыщенной фольклорными мотивами поэзии В. Дунина-Марцинкевича, в суровом стихе Ф. Богушевича и Я. Лучины, в бунтарских произведениях А. Гуриновича и Тетки, в ярком лирическом даровании М. Богдановича проявились разные грани глубоко народной по своим истокам и демократической по духу белорусской поэзии. Основное место в сборнике занимают произведения выдающегося мастера стиха М. Богдановича. Впервые на русском языке появляются произведения В. Дунина-Марцинкевича и A. Гуриновича.

Основоположник критического реализма в грузинской литературе Илья Чавчавадзе (1837–1907) был выдающимся представителем национально-освободительной борьбы своего народа.Его литературное наследие содержит классические образцы поэзии и прозы, драматургии и критики, филологических разысканий и публицистики.Большой мастер стиха, впитавшего в себя красочность и гибкость народно-поэтических форм, Илья Чавчавадзе был непримиримым врагом самодержавия и крепостнического строя, певцом социальной свободы.Настоящее издание охватывает наиболее значительную часть поэтического наследия Ильи Чавчавадзе.Переводы его произведений принадлежат Н. Заболоцкому, В. Державину, А. Тарковскому, Вс. Рождественскому, С. Шервинскому, В. Шефнеру и другим известным русским поэтам-переводчикам.
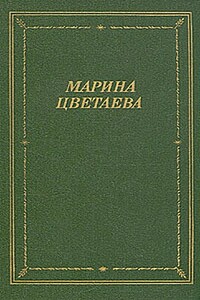
Объявление об издании книги Цветаевой «Лебединый стан» берлинским изд-вом А. Г. Левенсона «Огоньки» появилось в «Воле России»[1] 9 января 1922 г. Однако в «Огоньках» появились «Стихи к Блоку», а «Лебединый стан» при жизни Цветаевой отдельной книгой издан не был.Первое издание «Лебединого стана» было осуществлено Г. П. Струве в 1957 г.«Лебединый стан» включает в себя 59 стихотворений 1917–1920 гг., большинство из которых печаталось в периодических изданиях при жизни Цветаевой.В настоящем издании «Лебединый стан» публикуется впервые в СССР в полном составе по ксерокопии рукописи Цветаевой 1938 г., любезно предоставленной для издания профессором Робином Кембаллом (Лозанна)