Стихотворения и поэмы - [32]
1964
60. ГОВОРИТ ПРЕДАНЬЕ
1938
61. ПАМЯТИ ЭСХИЛА
1927, 1964
62. СУМЕРКИ ТРАГЕДИИ
Владимиру Луговскому
1928, 1964
Нетерпенье
63. НЕТЕРПЕНЬЕ
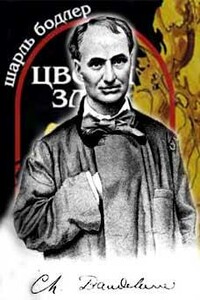
Сборник стихотворений классика французской литературы Шарля Бодлера, яркого представителя Франции 20—70-х годов XIX века. Бодлером и сейчас одни будут увлечены, другие возмущены. Это значит, что его произведения до сих пор актуальны.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
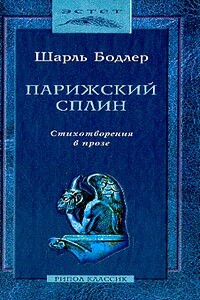
Существует Париж Бальзака, Хемингуэя и Генри Миллера… Бодлеровский Париж — таинственный и сумрачный, полуреальный и полумистический, в зыбких очертаниях тревожного сна или наркотического бреда, куда, однако, тянет возвращаться снова и снова.«Парижский сплин» великого французского поэта — классичесский образец жанра стихотворений в прозе.Эксклюзивный перевод Татьяны Источниковой превратит ваше чтение в истинное Наслаждение.

«Всегда сваливай свою вину на любимую собачку или кошку, на обезьяну, попугая, или на ребенка, или на того слугу, которого недавно прогнали, — таким образом, ты оправдаешься, никому не причинив вреда, и избавишь хозяина или хозяйку от неприятной обязанности тебя бранить». Джонатан Свифт «Как только могилу засыплют, поверху следует посеять желудей, дабы впоследствии место не было бы покрыто растительностью, внешний вид леса ничем не нарушен, а малейшие следы моей могилы исчезли бы с лица земли — как, льщу себя надеждой, сотрется из памяти людской и само воспоминание о моей персоне». Из завещания Д.-А.-Ф.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. Ф. Раевский (1795–1872) — один из видных зачинателей декабристской поэзии, стихи которого проникнуты духом непримиримой вражды к самодержавному деспотизму и крепостническому рабству. В стихах Раевского отчетливо отразились основные этапы его жизненного пути: участие в Отечественной войне 1812 г., разработка и пропаганда декабристских взглядов, тюремное заключение, ссылка. Лучшие стихотворения поэта интересны своим суровым гражданским лиризмом, своеобразной энергией и силой выражения, о чем в 1822 г.

В эту книгу вошли произведения крупнейших белорусских поэтов дооктябрьской поры. В насыщенной фольклорными мотивами поэзии В. Дунина-Марцинкевича, в суровом стихе Ф. Богушевича и Я. Лучины, в бунтарских произведениях А. Гуриновича и Тетки, в ярком лирическом даровании М. Богдановича проявились разные грани глубоко народной по своим истокам и демократической по духу белорусской поэзии. Основное место в сборнике занимают произведения выдающегося мастера стиха М. Богдановича. Впервые на русском языке появляются произведения В. Дунина-Марцинкевича и A. Гуриновича.
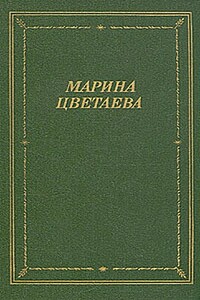
Объявление об издании книги Цветаевой «Лебединый стан» берлинским изд-вом А. Г. Левенсона «Огоньки» появилось в «Воле России»[1] 9 января 1922 г. Однако в «Огоньках» появились «Стихи к Блоку», а «Лебединый стан» при жизни Цветаевой отдельной книгой издан не был.Первое издание «Лебединого стана» было осуществлено Г. П. Струве в 1957 г.«Лебединый стан» включает в себя 59 стихотворений 1917–1920 гг., большинство из которых печаталось в периодических изданиях при жизни Цветаевой.В настоящем издании «Лебединый стан» публикуется впервые в СССР в полном составе по ксерокопии рукописи Цветаевой 1938 г., любезно предоставленной для издания профессором Робином Кембаллом (Лозанна)
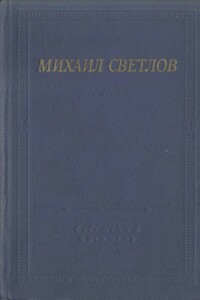
В книге широко представлено творчество поэта-романтика Михаила Светлова: его задушевная и многозвучная, столь любимая советским читателем лирика, в которой сочетаются и высокий пафос, и грусть, и юмор. Кроме стихотворений, печатавшихся в различных сборниках Светлова, в книгу вошло несколько десятков стихотворений, опубликованных в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов и фактически забытых, а также новые, еще неизвестные читателю стихи.