Стихи - [45]
Больше всего он боится смерти, небытия. Его жажда славы, наивная и плохо скрываемая, — тоже один из вариантов боязни небытия. Он тщится запечатлеть свое существование в этом мире. Он завистлив к славе и отличиям.
О поэзии Слуцкого
Традиция поэзии Слуцкого — от плаката 20-х годов плюс локальный образ конструктивизма. Нарочито укрупненные, броские пропорции стиха, мысль, данная крупным планом, угловато, четко и подтвержденная резкой «локальной» деталью. Нарочито резкий, грубоватый язык, ломкие ритмы — вот внешняя характеристика его поэзии.
Внешнее хорошо выражает внутреннее. Виднее всего это на военных стихах. Война показана Слуцким в формах плаката. «Я» там — не «лирический герой», не эпический наблюдатель, «я» — условное, плакатное, грубо очерченный контур, в который замыкается всегда ясная идея стихотворения. Ораторская интонация стиха почти всегда подтверждена ясным намерением автора и почти всегда спасена в поэзии «деталью», обнаруживающей очевидца, придающей достоверность сказанному.
Намерение Слуцкого в стихах о войне — объяснить народу его подвиг, растолковать ему, что он совершил нечто великое, и раскрыть трагические обстоятельства, в которых это великое совершается.
Намерение прямо противоположное намерению Толстого, пытающегося найти в структуре войны исконные, нетленные черты народного быта и народного характера, которым по существу чужда война, — от капитана Тушина до Платона Каратаева.
Слуцкого не интересует истинное самоощущение народа на войне, «истинные», «внутренние» цели народного бытия, неправомерно выражающегося в войне.
От войны он берет лишь детали, достоверную внешность, придавая ей свое возвышенное, ораторское.
Трезвость Наровчатова
Я посвящаю отдельную главу «Памятных записок» Сергею Наровчатову не ради его официального восхождения последних лет. Как личность яркая и незаурядная, он воплотил в себе целый тип нашего времени. Это тип продавших первородство не за чечевичную похлебку.
За что же? Вот вопрос.
Любопытно, размышляя о судьбе Наровчатова, проследить, как конкретно отлагалась в отдельной личности общая, казалось бы, концепция одного поколения. Как концепция эта прикладывалась хотя бы к нравственной натуре Слуцкого и безразличной к нравственному моменту натуре Наровчатова.
Наровчатов тоже выходец из посредственного класса. Его дворянское происхождение — миф.
Его восхождение есть тоже восхождение из посредственного состояния, из единственного сохранившего плавучесть в наши дни в нашем обществе.
Восходящий класс нуждается в исторических воспоминаниях и потому пририсовывает мифические ветки к русской дворянской генеалогии.
Нравственные же начала, столь мощные в русской дворянско-интеллигентской культуре от Пушкина до Пастернака, начала, развитые до болезненности, до терзательства и самоистязания, — начала, ставшие в глазах всего мира признаками русского духа, — эти начала не произрастают на пририсованных генеалогических ветвях.
Напротив, как бы рождается новый современный тип русского цивилизованного человека, тип прозаический и лишенный мук совести. Тип уже не русский, а византийский.
Человеческая молекула движется среди других людских молекул не беспорядочным Броуновым движением. Ломаным путем она все же продвигается в одном направлении, к цели, запрограммированной в социальном составе миропонимания.
Это не вульгарная социология, которая не учитывает крутые повороты, волевые импульсы, источаемые талантом и совестью, заставляющие менять направление, обусловленное косностью или свежестью социальных идей.
И все же я, честно говоря, ближе к вульгарной социологии, чем к сентиментальному индетерминизму.
В жизни Наровчатова ярко прочертилась линия его социальной судьбы — избранной как бы в полном уме и здравии и вместе неотвратимой, как рок, оправдываемой всей силой ума и богатством эрудиции; принимаемой всем бессилием таланта и изъянами совести.
Конечно, все это легко разглядеть сегодня в Наровчатове, произносящем речи, интересные только с точки зрения социальной психологии. 19-летний Сергей Наровчатов, студент второго курса ИФЛИ, казался ярко одаренным и был необычайно красив.
Одаренность в этом возрасте всегда — лишь обещание. Обещание подтверждалось поэтической красотой Сергея, его уверенно-ленивой походкой, чуть вразвалку, магаданскими унтами и мохнатой зимней шапкой, очертаниями юношеской шеи, распахнутым воротом, синевой глаз, любознательностью, жадностью к чтению, неутомимостью в серьезном споре.
Он отрешался тогда от постоянного осознания своей красоты, целиком погружаясь в стихию мысли. И дымил папиросами — одна за одной, — неаккуратно тыча куда попало окурки с изжеванным мундштуком.
Стихи его были тогда романтические, скорее всего тихоновского толка. Тихонов — образец и предтеча Наровчатова. Те же социальные признаки — мещанин, метящий во дворянство, преклоняющийся перед идеей власти и вожделеющий власти, променявший истинные ценности на иллюзорные и тем выражающий эфемерность исторического существования «посредственного класса».
«Северная повесть» — с долей сентиментальности:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
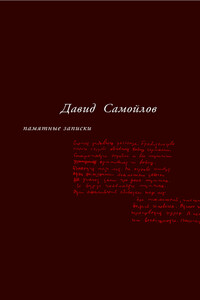
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)
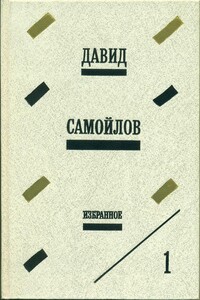
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
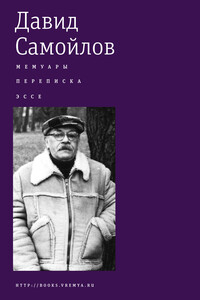
Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
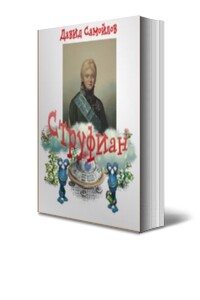
Уже много лет ведутся споры: был ли сибирский старец Федор Кузмич императором Александром I... Александр "Струфиана" погружен в тяжелые раздумья о политике, будущем страны, недостойных наследниках и набравших силу бунтовщиках, он чувствует собственную вину, не знает, что делать, и мечтает об уходе, на который не может решиться (легенду о Федоре Кузьмиче в семидесятые не смаковал только ленивый - Самойлов ее элегантно высмеял). Тут-то и приходит избавление - не за что-то, а просто так. Давид Самойлов в этой поэме дал свою версию событий: царя похитили инопланетяне. Да-да, прилетели пришельцы и случайно уволокли в поднебесье венценосного меланхолика - просто уставшего человека.