Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? - [115]
Позиция Солженицына показательна, в частности, следующим: в какой-то момент он почти допускает возможность того, что «беды» шаламовской прозы — вовсе не беды, а продукт определенной творческой программы. Принять эту трактовку ему мешает, во-первых, идеологическое несогласие — Солженицын и как человек, и как писатель «не верит» в то, что прошлое может исчезнуть, а личность нивелироваться, — а во-вторых, недостаточная для него выраженность этой программы. Солженицын здесь выступает почти в роли «наивного» читателя, который распознает условность или прием только в том случае, если эта условность, этот прием предъявлены ему по всем правилам куртуазного вежества, выражены демонстративно[510].
Но, несмотря на малоубедительную интерпретацию шаламовских текстов, Солженицын приходит к тому самому выводу, который, как мы наблюдаем, и провоцирует Шаламов — об убийственном и долгосрочном воздействии «многолетнего лагерного измота», а также о точности и аутентичности (пусть «нехудожественной» и, заметим, непреднамеренной) отображения этого «измота» в «Колымских рассказах».
Нам представляется, что и этот вывод, и сама ошибка Солженицына укоренены в природе шаламовской риторики, в той последовательности, с которой одни и те же сообщения раз за разом воспроизводятся на всех уровнях текста.
Речь и категория состояния
Там, где отсутствует, распадается личность, «персона», там становится невозможной, недоступной рассказчику и полностью персонализованная стилистика. Описывая лагерную действительность, Шаламов — блистательный русский поэт, теоретик поэзии, написавший интересную работу о роли звукового повтора в стихосложении, человек, по собственному признанию, инстинктивно грамотный, — время от времени впадает в косноязычие, повторяется, путает падежи, предлоги, порою просто игнорирует правила грамматики: «…И где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии» (Т. 1. С. 208), «…Запах свиной тушенки и мясные волокна, похожие на туберкулезные палочки под микроскопом, попадались в обеденных мисках каждому» (Т. 1. С. 496), «На поселке лыжному отряду отвели не палатку…» (Т. 1. С. 53), «Майор Пугачев понимал кое-что и другое» (Т. 1. С. 307), «Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма» (Т. 1. С. 305).
Мы не можем последовать за Солженицыным и всерьез рассматривать искаженную грамматику «Колымских рассказов» как прямое, буквальное физиологическое следствие изменений непосредственно авторской психики. И в поэзии, и в мемуарной прозе, и даже в переписке (жанрах, подразумевающих большую грамматическую свободу) Шаламов — при желании, естественно, — придерживается конвенциональных норм.
Более того, Шаламов категорически запрещал исправлять в тексте «Колымских рассказов» даже явные оговорки и ошибки. В статье «О прозе» он пишет: «Все повторения, все обмолвки, в которых меня упрекают читатели, — сделаны мной не случайно, не по небрежности, не по торопливости…»[511]. Попытки привести прозу «Колымских рассказов» в соответствие с правилами русского языка приводили Шаламова в ярость:
«„Сентиментальное путешествие“ Стерна обрывается на полуфразе, и это ни у кого не вызывает неодобрения. Почему же в рассказе „Как это началось“ все читатели дописывают, исправляют от руки не дописанную мною фразу „Мы еще рабо…“ И как бороться за стиль, запретить авторское право?»[512]
Поскольку грамматика — одна из самых жестких и малоизменчивых подсистем языка, резкое отступление от ее предписаний не проходит незамеченным. Шаламов высоко ценил такие неровности и как риторический прием, и как средство самопровокации. В той же работе «О прозе» он замечает: «Говорят, объявление лучше запоминается, если в нем есть орфографическая ошибка. Но не только в этом вознаграждение за небрежность. Сама подлинность, первичность требуют такого рода ошибок»[513]. Того же требует и изображаемое состояние рассказчика:
«… На морозе думать было нельзя. Человеческий мозг не может работать на морозе» (Т. 1. С. 496), «Язык мой, приисковый грубый язык, был беден — как бедны были чувства, еще живущие около костей… — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. <…> Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал» (Т. 1. С. 346).
Искаженная грамматика, повторы, неровности стиля естественно отражают формы бытования языка — и его носителей — в условиях лагеря.
По мнению лингвистов, грамматическая структура предложения в значительной степени отражает структуру мышления говорящего или пишущего. Борис Успенский описывает эту языковую ситуацию следующим образом: «Грамматика в принципе задает правила порождения текста… Правила как таковые позволяют манипулировать смыслом — и тем самым моделировать мир»[514].
Но если косноязычие, неправильность, неупорядоченность есть следствие крайнего духовного и физического истощения, результат непрерывного убийственного воздействия среды и одновременно способ моделировать эту среду, то не должны ли они хотя бы частично исчезнуть с прекращением такого воздействия? Косвенных подтверждений этой теории в тексте находится достаточно: время от времени нам демонстрируются ситуации, когда распад — физический и душевный — оказывается в той или иной мере обратимым. Нескольких недель в тифозном карантине хватает прибывшему с прииска Андрееву, чтобы исказившие его тело лагерные физиологические процессы развернулись вспять:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

В книге Ирины Каспэ на очень разном материале исследуются «рубежные», «предельные» смыслы и ценности культуры последних десятилетий социализма (1950–1980-е гг.). Речь идет о том, как поднимались экзистенциальные вопросы, как разрешались кризисы мотивации, целеполагания, страха смерти в посттоталитарном, изоляционистском и декларативно секулярном обществе. Предметом рассмотрения становятся научно-фантастические тексты, мелодраматические фильмы, журнальная публицистика, мемориальные нарративы и «места памяти» и другие городские публичные практики, так или иначе работающие с экзистенциальной проблематикой.
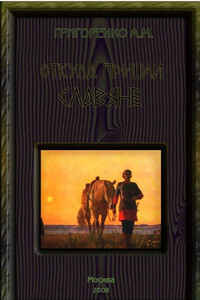
Популярное этно-историческое исследование происхождения славян. Трактовки этногенеза России и её истории. Интернет-издательство «Чрез тернии к звездам» grigam.narod.ru.

Памятка предназначена для солдат, которые возвращаются из германского и австрийского плена. В ней доступным языком излагаются сведения о тех переменах, которые произошли в России за 4 года, о создании Советской республики, о Красной армии.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.
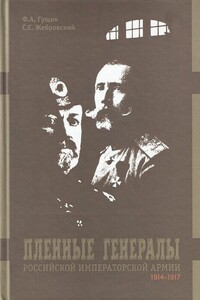
В исследовании впервые на строго документальной основе приводятся сведения о количестве русских военачальников, захваченных противником в годы Первой мировой войны, освещаются обстоятельства их пленения, пребывание в неволе и дальнейшая судьба. Ценным дополнением к основной части являются биографический справочник и другие материалы. В научный оборот вводится множество ранее неизвестных источников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Дьявольский союз. Пакт Гитлера – Сталина, 1939–1941» рассказывает о пакте Молотова – Риббентропа, подписанном 23 августа 1939 года. Позже их яростная схватка окажется главным событием Второй мировой войны, но до этого два режима мирно сосуществовали в течение 22 месяцев – а это составляет не меньше трети всей продолжительности военного конфликта. Нацистско-советский пакт имел огромную историческую важность. Мурхаус со всей тщательностью и подробностью восстанавливает события, предшествовавшие подписанию этого документа, а также события, последовавшие после него, превращая исторический материал в увлекательный детектив.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.