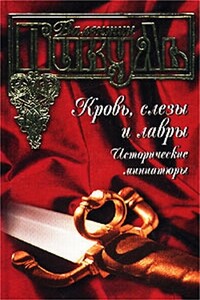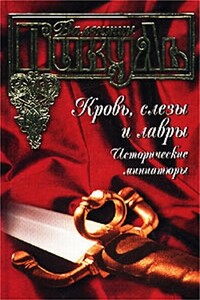Старый кантонист - [5]
На следующий день пришел отец. Я бросился к нему на шею и зарыдал…
— Не плачь… не плачь, сыночек мой, — дрожащим голосом говорил отец, обнимая и целуя меня. — не плачь…
Он прижал меня к своей впалой рабочей груди и гладил по голове.
Я бросился к нему на шею и зарыдал.
— Папа… — произнес я. Хотел сказать: «Разбойник схватил меня, когда тебя не было дома… Меня навеки отрывают от тебя, от родного дома… Спаси меня… Я пойду в учение к Калмону». — Папа, — мог я только произнести, рыдание душило меня. — Папа!..
Меня пугало то, что и отец всхлипнул. Я почувствовал, что он не может спасти меня. «Он оплакивает меня, — подумал я, — живьем хоронит»…
Плакали, глядя на меня, и мои соседи.
Когда я немного успокоился, отец заговорил:
— Как только я узнал, что случилось с тобою, я сейчас же бросился к сдатчикам, потом в общину, чтобы хорошенько узнать, в чем дело…
И тут я узнал от отца такие вещи, о которых раньше не имел ни малейшего понятия.
Когда Николай I издал указ о том, чтобы евреев брали в солдаты (до него евреев в солдаты не брали), еврейские общины стали хлопотать, чтобы евреев призывали в отроческом возрасте. Причина была та, что в двадцать лет большинство еврейских юношей были женаты и имели детей. Таким образом их семьи лишались отца и кормильца, который уходил на 30-летнюю службу, вернее, на век теряли его. Общины просили освободить женатых от военной службы, в каком бы возрасте они ни находились, а брать только холостых. Царь согласился.
Когда вышел указ не брать женатых, родители стали женить своих сыновей в отроческом возрасте и даже еще раньше. Скоро этот обычай так распространился, что все еврейское мужское население, кроме детей младшего возраста, оказалось женатым, и брать в солдаты стало некого. Тогда Николай I обязал еврейские общины круговой порукой: доставлять ежегодно определенное количество рекрутов по существовавшим тогда «ревизионным сказкам».
Этот указ явился страшным бедствием для евреев. Всей своей тяжестью он обрушился на трудящихся, на рабочих и бедняков. Он породил ужас, насилие и кровь.
Итак, каждая община по своему усмотрению, своими средствами производила рекрутский набор еврейской молодежи, вернее еврейских детей. Общиной избирались или назначались так называемые сдатчики, которые должны были доставить рекрутов в воинское присутствие. А так как правителями общины были только богатые, то дело сводилось просто к тому, что богатые отдавали в солдаты бедных. Тут уже не обращали внимание ни на возраст, ни на семейное положение, не помогала и женитьба. Считались только с выгодой, с извлечением прибыли. Делалось все это упрощенным способом. Просто хватали мальчиков, как схватили меня. Кто во-время мог скрыться, тот был спасен. Случалось и так: иные вступали в драку с «хапуном», избивали его и таким образом спасались. Если иному богачу никак не удавалось вывернуться, он просто нанимал за своего сына наемщика. Это было его законное право. «Деньги как бог милуют…» говаривали в старину.
Так, по ревизионной сказке в том году от всей нашей родни должен был пойти один рекрут. По разверстке очередь была за семьей моего дяди, который, к моему несчастью, был богат. К тому же он поспешил заблаговременно женить своих двух старших сыновей. Отец мой был не искушен в этих хитростях и он не надоумился женить меня. Впрочем, женитьба вряд ли помогла бы мне.
— Видишь ли, сыночек мой, — печально говорил отец, — ведь они, двоюродные братья-то, уж женаты… Если бы у Калмона был взрослый мальчик, а то ведь его Давидке всего семь лет… — И видно было, что ему жаль и Давидку и всех детей, которых отрывают от семьи на такое варварское, ненужное и жестокое дело. Он посмотрел на моего соседа и тяжело вздохнул. — Сколько тебе, мальчик, лет? — спросил он.
— На пасху мне сравнялось семь, — ответил тот.
— Если бы взяли Давидку, — продолжал отец, — то Калмон легко выкупил бы своего сына…
Мне стало ясно, что община пожертвовала мной для того, чтобы освободить моего двоюродного брата, и конечно Калмон не остался у нее в долгу…
Меня охватило отчаяние. Мысль о бегстве во что бы то ни стало опять пришла мне в голову.
— Разве попытаться спасти тебя как-нибудь сторонним путем?… — раздумчиво и тихо сказал отец после некоторой паузы.
— Я убегу! — шопотом сказал я. — Я все равно не пойду в солдаты!..
— Как же ты убежишь? — так же шопотом спросил отец.
Я рассказал о моей неудавшейся попытке бежать и прибавил, что теперь придумаю лучше.
— Но ведь ты не можешь двигаться один, ты же сцеплен с ним…
— Ну, что ж, вместе с ним я хожу и на воздух, а я все равно убегу!..
У меня вдруг блеснуло в голове:
— Принеси мне пачку нюхательного табаку!.. А вечером в десять часов приезжай на ту сторону яра и жди меня. Я прибегу и мы прямо поедем к тете…
Отец посмотрел на меня с некоторым удивлением, подумал и сказал:
— Хорошо… Но удастся ли тебе это, дитя мое?
— Удастся!.. — убедительно говорил я. — Ты только табаку скорей принеси мне.
— Хорошо.
Отец ушел. Я с лихорадочным нетерпением стал ждать его с табаком.
— Иося, ты слышал, о чем я говорил с отцом? — спросил я у моего спутника.
— Нет, — с искренностью ребенка ответил он.
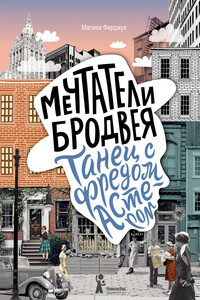
Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
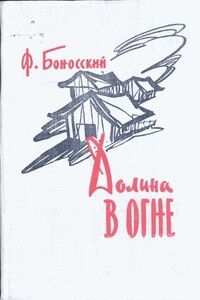
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.