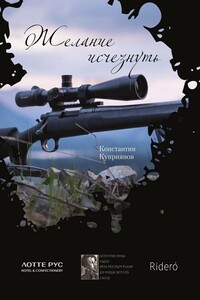Старая проза (1969-1991 гг.) - [92]
— Негодяи…. до чего деда довели…
Он уже лежит на столе в серо-розовых подштанниках, с большим позеленевшим крестом на темно-коричневой груди. Ну…
— Дедуль, слышишь меня?
— О-ох…
— Терпи, дед! — это я.
Но слышит ли он, понимает ли? Да и что та боль, которой я ему угрожаю, против этой?
Нащупываю ямку около уха, игла с хрустом входит в нерв. Но я уже не успеваю, и, когда мы пытаемся подвести расширитель, глаз лопается прямо под нашими руками от страшной натуги, и я вижу тончайший фонтанчик крови и глазной влаги, поднимающийся и сверкающий в луче бестеневой лампы. Ну вот и всё.
Глаз сразу сжимается. Нам остается только кончить дело. Валя, придерживая деда одной рукой, подает мне инструменты.
— Анатомические… подержи вот так… Ну…
Всё это надо бы под общим, но у старика шок. И… что уж там!..
Я вывожу яблоко из глазной щели. Валя убирает кровь, сушит. Зажимаю нерв, перерезаю. Все! Теперь культя, мешок конъюнктивы. Ну вот. Вставляю тампон, обеззараживаю. Пенициллин.
— Завязывай. Ну, дедушка, живой! Ну все, дорогой, ну все, мой хороший. Ты прямо герой у нас. Как звать тебя?
— Василий, — шепчет старик.
Перекладываем его на каталку.
— Александр Павлович, куда класть?
— Ни одного места?
— Ни одного.
— Давай в холл, а там видно будет.
И его увозят. Мы стоим с Валей в оцепенении.
— Да, — говорю я, глядя вниз, — глаз заформалиньте, пожалуйста, и на лед. Мне кажется, Лидии Николаевне пригодится, для диссертации… дегенерация глубокая, интересно.
— Хорошо. Отдохните, доктор.
— Н-да… Да-да…
Я пожимаю зачем-то плечами, снова надеваю нестерильный халат, разоблачаюсь, одним словом, выхожу.
Иду мимо лестницы и замечаю Наташу за кривым стеклом — она показывает мне пачку «Опала». Киваю и заворачиваю к ней.
— Уложили?
— Все хорошо, Александр Павлович. От окна отодвинули. Спит.
— Старуха как?
— Тоже спит.
Тишина в больнице. Но наша тревога, беготня, звонки разбудили больных, и вот начинается хождение, шлепанье ног, осторожные шажки, постукиванье палок. Всегда в это время, будто в некий фазис входит луна, пробуждаются среди глухой ночи старики, почти одновременно, и идут, идут в уборную и из уборной, ведут слепых, сплошное движение в полутемном коридоре, шаги, шаги.
— Давно мы не дежурили вместе, — говорю я Наташе, затягиваясь так, что холодеет в ногах. — Как вообще… жизнь?
Она пожимает плечами, чуть приподняв бровь.
Мне хочется сказать ей что-то хорошее… или о том, что лежит на душе, — это тяжелое угрюмое чувство неприязни к самому себе, оттого что никак и, наверное, уже никогда не научусь спокойно и привычно бросать на лоток удаленные глаза, — но я только курю, и от крепкого болгарского табака кружится голова.
— Хороший старик, — говорит Наташа. — Верующий. Знаете, мы его уложили, а он: «Христос с вами, Христос с вами».
— Да, — говорю я. — Не знаешь, когда умирают, хоронят с крестом?
— Не знаю. Кажется, да.
— Ты к Вике заходила? Как она?
И снова то же движение: пожимает плечами и поднятая бровь.
— Знаете, Александр Павлович, — говорит Наташа, сбивая осторожным постукиванием пальца хрупкий столбик пепла. Пальцы у нее длинные, с аккуратно подстриженными ногтями, в руках простота и чистота. — Только вы не смейтесь, хорошо?
— Постараюсь.
— Знаете, я опять поступать хочу. Дура, да? Скажут — ненормальная.
— Пусть говорят. Поступай.
— Вы думаете?
— Думаю.
Почему она меня спрашивает? Разве я знаю? Разве могу давать советы? Я снова смотрю на ее руки. На эту ясную открытость больших спокойных рук.
— Хорошие у тебя руки, — говорю я, и меня тотчас охватывает стыд. Что-то сказано не так. Стоило бы мне только проговорить: «Хорошие у в а с руки», — и не было бы этой чуть нагловатой, фатовской ноты заигрывания. Ее и не было, но можно понять именно так, и мне стыдно. Стыдно, хотя мы уже немало лет в этом неравноправном положении: «ты» и «вы».
Бывают минуты, когда тебе вдруг делается совершенно очевидным, что ты, самое тайное твое разгаданы и поняты, что в тебе читают, как в книге. так и сейчас. Наташа чуть улыбается, и в углу ее рта еле заметная складочка боли. И еще то ли сожаления, то ли сострадания. И хоть я давным-давно не верю в то, что людей вредно жалеть, мне самому этот ее взгляд сейчас мучителен.
— Простите, — говорю я, нахмурясь.
Мы молчим, и вдруг снизу, из общей хирургии, из лестничного пролета, вспарывая ночь, слышен долгий, пронзающий крик: «Не хочу-у-у!»
Мы оба вздрагиваем. У них там, внизу, тоже свое. И там все куда страшней, чем у нас…
— Не-е хо-о-чу-у-у-у-у! — Нельзя понять, женщина кричит или мужчина, от боли или от страха смерти, что наваливается иногда ночью на всю больницу, и тревожны тогда все, и бегают с кислородом, и топот ног, и непременные летальные исходы… Наташа плотнее прикрывает дверь в наше отделение.
— Н-да, — говорю я. — Ты в полостной хирургии работала когда-нибудь?
— В училище, на практике.
— Это все чепуха. Слышала? И вот так каждый день. Крик, кровь… очень тяжело. У нас, как говорится, семечки.
— Я знаю. Но я хочу быть глазным хирургом.
— Что ж. Нива знакомая.
— Дерзать?
— А почему ж нет?
Догорает сигарета, и мы идем в отделение. Сегодня одна из таких тяжелых ночей, в палатах разговоры, стоны. Но есть люди счастливые, крепкие люди, которым нипочем и это общее гнетущее ожидание: «Скорей бы кончилась ночь!» Слышен их хороший ядреный храп. И Салтыков, верно, вовсю почивает в своем персональном боксе. Ну и слава Богу. Почему-то кажется, что ему не должны сниться сны.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
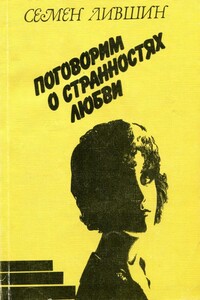
Сборник «Поговорим о странностях любви» отмечен особенностью повествовательной манеры, которую условно можно назвать лирическим юмором. Это помогает писателю и его героям даже при столкновении с самыми трудными жизненными ситуациями, вплоть до драматических, привносить в них пафос жизнеутверждения, душевную теплоту.
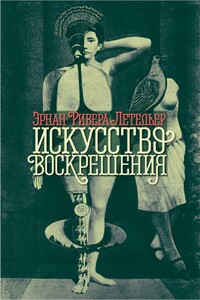
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.