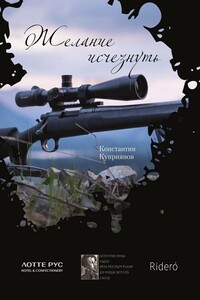Старая проза (1969-1991 гг.) - [90]
Но и они дежурят по своим законам — одна на посту, а две спят на кушетке в процедурной, тоже готовые вскочить и бежать в любую секунду, и, когда они вступят в дело (это проверено на практике), две успевшие поспать сестры работают лучше, чем три сонные. И так во всем, во всем…
Наверное, оттого, что мысли мои всегда бегут вот по такому размытому, неопределенному, всегда одинаковому кругу посылок и умозаключений, я остался один в свои тридцать четыре года, живу тянущими за сердце воспоминаниями о давным-давно, лет шестнадцать назад, пролетевшей весенней любви, когда однажды с букетом сирени я вбежал, как пьяный, в ночное закрывающееся метро и вступил не на уносящий вниз, а приносящий эскалатор и все боролся с силой, что тащила назад, все никак не мог понять, что же это, почему.
Да, жизнь бежит и несет на себе всех и вся, и правых, и виноватых, и педантов, и нарушителей. И медсестру Наташу, о которой сплетничают, на которую некогда с высоты своей абстрактной чистоты взирал и я сам.
Но что, что, да еще и по слухам, я брался осуждать в ней? Разве знаю я, как именно должно быть все у людей? И было ли вообще то, что я так спокойно осмелился осуждать? Да и что осуждал я? Неужели то, что она хотела любить и любила? Или то, что ночами около ее стола, на посту в коридоре, сидели мужчины, молодые и не очень, и она говорила с ними о чем-то…
И так однажды, размышляя об этой красивой, тяжеловатой двадцатисемилетней девушке, начавшей и почему-то бросившей институт, в который поступила с первого захода — не в пример многим, — я неожиданно увидел всё как оно и было на самом деле, — увидел, и меня окатило стыдом, тем жарчайшим стыдом за скудость и бедность того, что есть я.
И вот уже года три смотрю на нее со странным уважением, как на человека, который, несомненно, больше меня самого этим спокойным превосходством душевной силы.
Наверно, то, что понял о ней я, знает и наш главный врач, или просто главный, и я люблю главного за то, как он коротко и резко обрывает все новые сообщения о ночной Наташиной жизни.
— Она отличная сестра, — быстро говорит главный. — Все остальное мне неинтересно. Да, так как там у нас с пилокорпином? Пятипроцентный? В аптекоуправление звонили?
Полночь скоро. Спит больница. Наше отделение считается спокойным, здесь не умирают. Почти никогда не умирают, хотя много стариков. Нет густого неистребимого запаха тяжелых отделений, и дежурства проходят без закрытых наутро историй болезни и сообщений для родных в справочную.
Выключаю настольную лампу и лежу в темноте, заложив руки за голову. Как тихо! Окна выходят во двор больницы, и только иногда ветер вдруг дернет железо крыши, загудит. Вспыхнет голубым, и осыплется искрами трамвайный провод…
Руки… руки… Почти всегда эти мысли о руках. Мои неумные, неинтеллигентные руки и руки шефа, в которых гениальность, странные руки с необычными, какими-то тупорылыми тонкими пальцами, но в них гениальность, как в мужицкой бороде Толстого и печальных очках Чехова. А мои руки тяжелы, и я знаю об этом от больных: они устают под моими руками, я вожусь, аккуратничаю, стараюсь, пыхчу… И всегда, когда особенно становится тяжело, вот как в это, может, тысячное мое ночное дежурство, я задаю себе один и тот же вопрос: да или нет? Будет ли, придет ли когда-нибудь ко мне та страшная легкость, с какой он, будто играючи, работает иглами и ножами, и почти всегда счастье блестящей удачи, или это правда свыше, и я до конца так и пребуду в сем качестве среднего, надежного, толкового, но навеки привязанного к земле…
Уже девять лет я здесь. Высокий стабильный процент успешных исходов и гладких течений. Видно, от той же лени я не пишу и не собираюсь садиться за кандидатскую, вообще как бы сторонюсь науки, исследований, статистики… Только иногда вдруг подкатит зависть к кому-нибудь, кто придумает, как проще и быстрее набрасывать петли швов, — усмехнусь втайне, будто теша себя, что и я думал об этом и даже несколько раз применял на столе уже года три назад… В общем, кольнет и отхлынет.
И только все терзаю кроликов, пытаюсь приучить руку к тому движению, каким шеф, будто в воздухе, прочеркивает, взрезая поле, и вот оно уже кровоточит, а больной улыбается, слушая торопливую веселую скороговорку шефа, отвечает шепотом…
Зачем мне в науку? Мама… Она все еще верит в меня, в мою «высокую звезду». А я, скорее всего, никогда не создам школы, не возглавлю направления… Я умею с правильными ударениями читать стихи, но писать их мне не дано. Да, мама, не дано.
Мне словно и не хочется ничего. Были бы только вот эта жизнь, больные, конференции, спирт на руки, антисептик в тазу, иглы, офтальмоскопы, громадные зрачки в окулярах щелевых ламп с красной полоской на дне черного космоса бездонного глаза…
Я начинаю засыпать, думая о том движении, о том движении, каким шеф открывает операционную рану, когда… когда…
— Александр Павлович! Александр Павлович!
— А… да? — Я стремительно просыпаюсь и сажусь на кровати.
— Слушаю, Наташа!
Она стоит на пороге ординаторской, встревоженная.
— Да! — вскакиваю, надеваю ботинки, халат, быстро мою руки, слушаю.
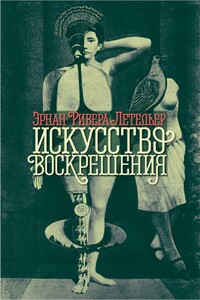
Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) — Доминго Сарате Вега, более известный как Христос из Эльки, — «народный святой», проповедник и мистик, один из самых загадочных чилийцев XX века. Провидение приводит его на захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница Магалена Меркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду Христа — «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». Эрнан Ривера Летельер (род.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

«Шиза. История одной клички» — дебют в качестве прозаика поэта Юлии Нифонтовой. Героиня повести — студентка художественного училища Янка обнаруживает в себе грозный мистический дар. Это знание, отягощённое неразделённой любовью, выбрасывает её за грань реальности. Янка переживает разнообразные жизненные перипетии и оказывается перед проблемой нравственного выбора.

Удивительная завораживающая и драматическая история одной семьи: бабушки, матери, отца, взрослой дочери, старшего сына и маленького мальчика. Все эти люди живут в подвале, лица взрослых изуродованы огнем при пожаре. А дочь и вовсе носит маску, чтобы скрыть черты, способные вызывать ужас даже у родных. Запертая в подвале семья вроде бы по-своему счастлива, но жизнь их отравляет тайна, которую взрослые хранят уже много лет. Постепенно у мальчика пробуждается желание выбраться из подвала, увидеть жизнь снаружи, тот огромный мир, где живут светлячки, о которых он знает из книг.