Становление европейской науки - [20]
Этот трагический образ Павла, вынужденного стать Савлом, чтобы спасти внутренний «Дамаск», в веках остался западному сознанию, привыкшему искать истину в «документах» и недоверчивому к свидетельствам души, мучительной загадкой неадекватности; когда спустя полуторатысячелетие канцлер фон Мюллер запишет следующее признание престарелого Гёте: «Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? Пожалуй, я один, хотя вы и считаете меня язычником»,[58]это прозвучит уже и вовсе непонятным разъяснением не только собственной жизни, но и тайны Юлиановой души.
Ампутация эллинства не могла быть не чем иным, как самоизувечением. Последствия отказа от гнозиса и философии в полной мере сказались на Священном Писании; массированное искажение Библии шло двумя фронтами: филологическим и теологическим. Классическая латынь Цицерона, отягощенная непривычным говором африканских полукровок, трещала по швам, выдерживая натиск космических смыслов; языку краснобаев и нотариусов предстояло вместить в себя решительно «всё», но вместил он, как и следовало ожидать, ровно столько, сколько вмещалось; невмещаемое, как опять же следовало ожидать, оказывалось попросту неуместным. Неуместным стал прежде всего тот самый духовный смысл Библии, исключительность которого столь энергично подчеркивал Ориген; оставшиеся оба смысла — буквальный и аллегорический — прокидывали прямые мосты к будущим растерзателям текстов, и барону Гольбаху в XVIII веке не оставалось ничего другого, как заколачивать крышку гроба, выструганного в IV веке «блаженным» Иеронимом. Атеизм был консеквенцией, а не внешним нападением; он вытекал из самого существа текстов, сведенных к буквальным нелепостям и рассчитанных на «credo, quia absurdum»; Священное Писание, прочитанное глазами Оригена, исключало саму возможность будущего просветительского остроумия; отнятое у Оригена (он — мы увидим — будет осужден), лишенное единственно сообразного ему духовного содержания (сам «дух» — мы увидим и это — будет упразднен), оно стало собранием торжественно оглашаемых «чудес», колеблющих твердыни лучших традиций материализма и время от времени смягчаемых разогрето «душевными» аллегориями вроде заповеди о «птицах небесных и лилиях полевых». Таким оно и пребыло в веках, первым памятником цензуры и редакторского мастерства, и только в нашем веке усилиями Эмиля Бока, вновь переведшего Новый Завет и частично Ветхий, был открыт путь к исконно пневматическому его содержанию[59].
Было бы непростительной ошибкой ограничить этот «метод» только богословско-эксегетической значимостью. Гнозис Оригена — ключ к духовной культуре как таковой, где речь идет не просто об интерпретации библейских текстов, а об «интерпретации» вообще. Разучившись понимать одно, тщетно рассчитывать на понимание другого; Яков Бёме в XVII веке сравнит Природу со Священным Писанием и даже поставит её выше,[60]и проблема понимания природы, заостренная вплоть до наших дней в стольких «методологиях», обнаружит в ином облачении все без исключения язвы былых теологических недоразумений. Понимание, переставшее однажды быть пониманием, с невероятной силой выкажет свое бессилие именно здесь, где современная наука, скажем , космология будет «не только не в состоянии дать ответы, но даже неспособна четко сформулировать самые важные для себя вопросы»;[61]неспособна, добавим мы, постичь причину собственной немощи как расплаты за первородный грех отказа от понимания.
Подведомственная таксономия под благовидной миссией наведения-де «порядка» запутает все нити; в роли консультантов окажутся Декарт, Кант и «методологи», ибо, во-первых, где же искать корни «методологической» проблематики, как не у самих «методологов», и, во-вторых (третьего не будет), что же искать у самих «методологов», как не корни «методологической» проблематики? На это следовало бы ответить: «методологическая» проблематика коренится отнюдь не в сочинениях «методологов», которые сами суть достаточно проблематичные всходы некоего неведомого «корня». «Рассуждение о методе» и «Критика чистого разума» характеризуются как наиболее зрелые манифестации одной культурно-исторической эпистемы. Пусть так; но каков генезис самой этой эпистемы? Говоря конкретнее и строже: Ньютон интерпретировал природу, Кант интерпретировал Ньютона. Ласк интерпретировал Канта. Иными словами: Ньютона интересовала «возможность» природы, Канта — «возможность» Ньютона, Ласка — «возможность» Канта[62].
Таков классический треугольник формально-систематической интерпретации. Требование симптоматолога формулируется иначе: его интересует «возможность» самого треугольника — первоистоки, основания, «архе» самой эпистемы. Оставим в покое Декарта с его «картезианской парадигмой»; порождающие симптомы этой парадигмы придется искать в масштабах более чем тысячелетнего прошлого.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.
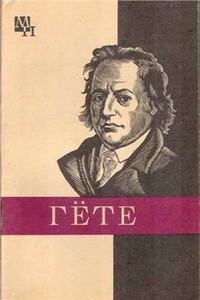
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент.
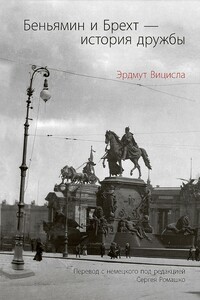
Начать можно с начала, обратив внимание на заглавие книги, вернее — на подзаголовок: Die Geschichte einer Freundschaft, то есть «История (одной) дружбы». И сразу в памяти всплывает другая книга: в 1975 году уже старый Гершом Шолем опубликовал воспоминания о Вальтере Беньямине с точно таким же подзаголовком. Конечно, подзаголовок ни в том, ни в другом случае оригинальностью не отличается. И всё же невозможно отделаться от впечатления, что вышедшая значительно позднее книга Вицислы вступает в дискуссию с Шолемом, словно бы отвечая ему, что дружба-то была не одна.

Убедительный и настойчивый призыв Далай-ламы к ровесникам XXI века — молодым людям: отринуть национальные, религиозные и социальные различия между людьми и сделать сострадание движущей энергией жизни.

Первая в России книга о патафизике – аномальной научной дисциплине и феномене, находящемся у истоков ключевых явлений искусства и культуры XX века, таких как абсурдизм, дада, футуризм, сюрреализм, ситуационизм и др. Само слово было изобретено школьниками из Ренна и чаще всего ассоциируется с одим из них – поэтом и драматургом Альфредом Жарри (1873–1907). В книге английского писателя, исследователя и композитора рассматриваются основные принципы, символика и предмет патафизики, а также даётся широкий взгляд на развитие патафизических идей в трудах и в жизни А.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Эрик Вейнер сочетает свое увлечение философией с любовью к кругосветным путешествиям, отправляясь в паломничество, которое поведает об удивительных уроках жизни от великих мыслителей со всего мира — от Руссо до Ницше, от Конфуция до Симоны Вейль. Путешествуя на поезде (способ перемещения, идеально подходящий для раздумий), он преодолевает тысячи километров, делая остановки в Афинах, Дели, Вайоминге, Кони-Айленде, Франкфурте, чтобы открыть для себя изначальное предназначение философии: научить нас вести более мудрую, более осмысленную жизнь.