Сталинщина как духовный феномен - [2]
К аналогичным выводам приводят исследователя и наблюдения за развитием языка сталинского периода. Значение таких слов как «агитировать», «добровольно», «законность» в советском словоупотреблении совершенно ясно показывает, что мы имеем дело с миром иных понятий, чем дореволюционная Россия или современная Европа, а следовательно и с миром иной действительности. Сравнение же семантического содержания многих выражений и оборотов в бытовом и официальном советском языке подтверждает со своей стороны то, что дает и сравнение предметов материальной культуры с их описанием у советских авторов: в СССР существуют два мира — мир действительный и мир кажущийся, мир подлинной советской действительности и мир ее официального описания.
Нетрудно раскрыть ту же самую закономерность в соотношении данных мемуарной литературы, и прямого наблюдения, с одной стороны, и описаний советской действительности, сделанных по заданию партии и правительства — с другой. Изучение достаточно богатого мемуарного материала, наблюдение за поведением советских людей и непредвзятый опрос их с несомненностью показывают, что советские люди вовсе не таковы, какими они описываются, что между образом преданного советскому строю, бодрого, жизнерадостного и готового пожертвовать собой во имя коммунистических идеалов положительного героя советской литературы и действительными убеждениями и поведением советского гражданина дистанция огромного размера и совершенно определенного характера.
Разрыв между советской действительностью и официальным описанием ее очевиден из сравнительного рассмотрения любых источников. Будучи последовательно проведенным, это сравнение дает безусловное основание для определения, когда и каким образом описание искажает действительность. И если в создаваемых по воле советской власти источниках действительность отражается как бы в кривом зеркале, то сравнение этого отображения с отражением, пусть даже неполным, но полученным из независящих от этой воли источников, позволяет определить «радиус кривизны» этого «зеркала», т. е. найти методический ключ для оценки и использования также и кривого изображения.
Различение между миром советской действительности и его описанием большевиками есть фундаментальная методологическая предпосылка, а анализ взаимоотношения между тем и другим — важнейшая задача исследования, отдающего себе отчет в источниках добываемых знаний. Пренебрежение этим анализом делает невозможной четкую отработку основных понятий, характеризующих природу сталинской власти, влечет исследователя по пути неосновательного доверия к коммунистической фразеологии и приводит лишь к наукообразному оформлению ходячих мнений-мифов, коренящихся в неуменьи осознать принципиальные отличия сталинизма от других политических явлений как прошлого, так и современности и в неосознанной уверенности в том, что, так или иначе, жизнь в Советском Союзе сводится к комбинациям элементов прежней русской и современной европейской жизни.
Думается, что именно этой уверенностью объясняется пренебрежение многих авторов как систематической критикой источников, так и выработкой терминологии. Термины «социализм», «коммунизм», «класс», «демократия», «прогресс», «реформы», «советский», «русский» и многие другие употребляются в самых фантастических сочетаниях и смешиваются самым неожиданным образом. В советском словоупотреблении, напротив, они используются с большой точностью, хоть далеко не всегда в согласии с их словарным значением. Последовательное и систематическое изучение партийной терминологии и фразеологии и раскрытие на ее основе характерных особенностей советской жизни, несомненно, должно рассматриваться, как одна из важнейших предпосылок и существеннейших задач исследования.
Как в создании собственной терминологии, так и в анализе наиболее характерных для современной литературы терминологических промахов и перемешиваний понятий мы, разумеется, не могли пойти дальше самых элементарных основ. Но даже и этих основ оказалось достаточно, чтобы установить по меньшей мере, чем сталинизм не является, и сделать несколько дальнейших методологических выводов, которыми мы также воспользовались в нашей работе. Остановимся лишь на нескольких методологически наиболее поучительных заблуждениях.
Прежде всего, здесь проявляется некритическое стремление оценивать формы выражения/ духовной жизни сталинского периода точно так жё, как царской России или любой другой некоммунистической страны. Авторы, совершающие эту ошибку, естественно оказываются в плену многочисленных и легко доступных официальных источников и не склонны особенно проверять их на базе других, несравненно более бедных и трудно доступных. Они не видят принципиальной разницы между сведениями, публикуемыми в какой-нибудь английской или немецкой газете и утверждениями советской печати.
Вопрос о происхождении и значении ясно видимого из сравнения источников несоотвествия советской действительности ее описанию не стоит перед этой категорией исследователей. Официальные утверждения партии и правительства принимаются ими на веру, а если разрыв между словом и делом в СССР и не проходит для них вполне незамеченным, то поправки к советским источникам вносятся лишь от случая к случаю, в порядке методологически непродуманных оговорок. Соотношение между реальными отношениями страны и власти и описанием этих взаимоотношений самой властью, предполагается ими аналогичным тому, которое имеет место в системе европейской культуры. Основная черта советского строя, разрыв между «базисом» и «надстройкой», между отраженной в предметах материальной культуры, языке, деловых документах и свидетельствах очевидцев действительностью и ее изображением в коммунистической теории и пропаганде представляется им явлением несущественным и не достойным специального анализа. В результате мысль их оказывается не в состоянии выпутаться из лабиринта коммунистических мифов и фикций и пускается в безнадежное странствование по нему, не различая «самого демократического в мире строя» ни от демократии, ни от диктатуры, а «бурного роста благосостояния широких трудящихся масс» от «трудностей роста» и нищеты совершенно явной и несомненной.

Опубликовано в журнале «Левая политика», № 10–11 .Предисловие к английскому изданию опубликовано в журнале «The Future Present» (L.), 2011. Vol. 1, N 1.
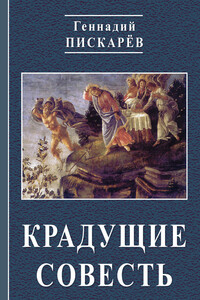
«Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи», – эта библейская мысль, перерожденная в сознании российского человека в не менее пронзительное утверждение, что на праведнике земля держится, является основным стержнем в материалах предлагаемой книги. Автор, казалось бы, в незамысловатых, в основном житейских историях, говорит о загадочном тайнике человеческой души – совести. Совести – божьем даре и Боге внутри самого человека, что так не просто и так необходимо сохранить, когда правит бал Сатана.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Правда не нуждается в союзниках» – это своего рода учебное пособие, подробный путеводитель по фотожурналистике, руководство к действию для тех, кто хочет попасть в этот мир, но не знает дороги.Говард Чапник работал в одном из крупнейших и важнейших американских фотоагентств, «Black Star», 50 лет (25 из которых – возглавлял его). Он своими глазами видел рождение, расцвет и угасание эпохи фотожурналов. Это бесценный опыт, которым он делится в своей книге. Несмотря на то, как сильно изменился мир с тех пор, как книга была написана, она не только не потеряла актуальности, а стала еще важнее и интереснее для современных фотографов.
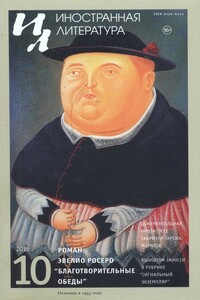
В рубрике «Документальная проза» — газетные заметки (1961–1984) колумбийца и Нобелевского лауреата (1982) Габриэля Гарсиа Маркеса (1927–2014) в переводе с испанского Александра Богдановского. Тема этих заметок по большей части — литература: трудности писательского житья, непостижимая кухня Нобелевской премии, коварство интервьюеров…