Среди обманутых и обманувшихся - [12]
И никто, решительно никто таким повсеместным мужьям-медведям не посоветовал, как А. Рождественский посоветовал истязуемым женам: «Покинула жена? Делать нечего — стерпите. Знайте верно, что за такое терпение стяжаете ангельский венец».
Торквемада физически и лично, своими руками — никого не мучил. Была издана формула мягкая: «Передаем вам (светскому, государственному судилищу) нераскаянного грешника для наказания самым легким видом — без пролития крови». И несчастных, для исполнения буквы распоряжения («без пролития крови»), — сжигали!!! Пришли грубые люди, люди не меланхолические, не того «основного христианского настроения», о котором зловеще заговорил на Религиозно-философских собраниях М.А. Новоселов, а обратного, веселого, с пивом, девушками, о которых написал Майков:
пришли — и ужаснулись! Они не начали по пунктам и «письменности» добираться, кто подлинно
а прямо указали на «кроткого» Торквемаду, который по документам был совершенно чист, неизменно советуя государству «обходиться с грешниками кротко — без пролития крови». Простые, грубые «завсегдатаи» швабских, толедских, вормских и иных «трактиров» — пошли кучею не по адресу к светскому государству, а к воротам «Святейшего Судилища»[7] — и разломали его, и растоптали все, и посолили солью самую землю, на которой оно стояло, дабы ничего не смело расти на его ужасном месте. Грубые люди! А ведь «письменность» вся была на стороне Святого Судилища?! Там были кроткие фразы! И невозможно же, невозможно предположить прямой, в лицо, злобы, хотя бы даже у Торквемады. «Жги!» — нет, этого и он не говорил. Но тайною диалектикою души, но вековым привыканием «к мерам все более и более строгим» и вековым отвыканием от людей, от жизни, от площади, от улицы, от природы — он был приведен к деяниям, уже ничего не говорившим его иссохшему в размышлениях сердцу, его оскорбленному в «святости» сердцу. «Род сей (людской) жестоковыен: и ничем не можно избыть из него беса лукавства»… кроме как тем-то и тем-то, и так вплоть до «огонька». Считаю ли я Л. Писарева, г. Басаргина, М.А. Новоселова — людьми дурными? Избави Бог. Но дух учения их зол: и, лично, может быть, хорошие люди, — они уже введены в лабиринт того таинственного духовного движения, которое на далеком конце завершается Торквемадою. Но в католичестве все завершено, у нас же все оборвано, робко, нерешительно: «Они (г. Мережковский, я и вся „компания“) — филозои» (термин взят из последнего романа г. Боборыкина), формулирует и Басаргин; и слово так выражает основную его точку зрения на нас, что он повторяет ее и в юбилейных статьях о Хомякове, кивая в нашу же сторону. «Филозои, — поясняет он, — любители жизни». Вот это-то, любовь к жизни, — и есть метафизическая точка поворота от мировоззрения ихнего к мировоззрению нашему. Не беспокойтесь: они не только бы простили нам полное равнодушие к религии, к христианству, даже отречение от Лика Христова (ведь не мучительно же они восстают ну хоть на Карла Фохта, Бокля, Бюхнера); все бы простили, полный выход не только из христианства, но из всего круга всемирной религиозности, как простили это или равнодушно отнеслись к этому во всем нашем образованном обществе; но вот этого «филозойства», этого прилепления к миру, уважения к миру — они не простят никогда! ни за что!! Собираю я мелочные факты и размышляю давно: года два назад в каком-то «прибавлении» к «Биржевым Ведомостям», взятым на ходу у швейцара, прочел я в «мелких известиях» на 4-й странице следующий факт: в Алжире (или Тунисе) служил какой-то богатый француз и свел дружбу с мелким туземным князьком. Жил там долго, а князька очень полюбил. И стал ему князек сообщать правила их веры, всю премудрость и, может быть, нам не известную поэзию мусульманства. Мелкий шрифт — короток, и я передам только схему: кончилось тем, что француз по существу ли или по форме — перешел в мусульманство. Во Франции и в Париже ведь давно всякой веры нет; там — франкмасонство, «культ Изиды», «черная месса», вообще мало ли что. Конечно, за переход в мусульманство никто не думал его преследовать. Просто — не интересно было, и никто вопросом о религии его не интересовался. Но, последуя князьку (мне даже неловко писать — но факт достоин философского размышления), он последовательно женился на одной ли, на двух ли туземках. Связи его с Парижем и Францией не были разорваны, и раз в несколько лет он посещал, на несколько недель, свою родину. Понравилась ему очень француженка-девушка, образованная и из общества. Он делает ей предложение, но и объясняет о себе все, т. е. что у него уже три жены. Та ужаснулась. Он ей также нравился, но все его положение ей представилось до того чудовищным, что она не могла постигнуть его сути; а из рассуждений и оправданий его ничего не разумела. Во всяком случае, раньше чем сделать шаг, она захотела увидеть его жизнь на месте, как это «обходится», каков быт и психика. Поехала, долго жила, не соединяя с его судьбою — своей; но наконец, все выверив, может быть войдя в новую духовную обстановку, — согласилась и вышла за него замуж. Доселе — факт: но вот начинается интересное. Через несколько лет со всею своей уже чрезвычайно обширной семьей он приехал в Париж: его никто не принял! ни друзья, ни родные!! Все спортсмены, любители конских бегов, имеющие по 3–4 содержанки, все, наконец, постоянные посетители домов терпимости, соблазняющие и кидающие с ребенком девушек, полные атеисты и не христиане — не сочли возможным просто «узнать его на улице», поклониться. Франция для него умерла. Он умер для Франции. Рассказ меня до того поразил, что я тогда же пришел к догадке: «Тут — метафизика, метафизическая точка всего (исторического) христианства». Дело вовсе не в атеизме — он прощается; не в разврате — и он прощается; не в лице Христа даже — и Его полное забвение прощается же. Все — прощено, ко всему — равнодушны. «Он друг наш, он — приятель наш, хоть и неверующий, хоть bon vivant». Вольтер, английские деисты, Штраус, — нисколько, ни малейше не вышли из «христианского общества», суть — его живые фракции, его филиальные отделения, разветвления. Но (перехожу к другому, подтверждающему примеру), напр., мормоны — исключены из парламента Соединенных Штатов, и, очевидно, не за религию (ибо атеисты могут в нем состоять), но за быт, аналогичный тунисскому обитателю. Исключены — и почти преследуются на улицах, почти побиваются камнями. Вот это-то и наблюдайте, это-то и любопытно, тут-то и философия. Вольтер с триумфом въехал в Париж, осмеяв все католичество. Значит, не в католичестве дело, не в церковном строе. Можно быть вне церкви, а из «христианского общества», с пожатием рук и приятным bon vivant'cтвом — не выходить. Наблюдайте эти абсолютные расхождения, абсолютную ненависть, как у civis romanus (римский гражданин (лат.)) — к servus (раб (лат.)), как у эллина — к????????? как у «крещеного» — к «обрезанному»: и вы тут только и откроете зерно расхождения целых культур, цивилизаций. Ведь что сделал тунисец или мормон: да всю жизнь он знает только 4-х женщин, т. е. раз в семь меньше даже «плохонького», дохленького француза. В сторону скромности, умеренности — у него решительный плюс (это-то невеста-девушка, верно, и высмотрела). Не в скромности дело. В чем же? Возьмем нелюбимую жену, Мину из «Красного карбункула»: смерть, окончившая годы истязаний. Да, но и с этим фактом решительно не «перестает подавать руку» европейское общество. Наконец, измена жене: возьмем Стиву Облонского (из «Анны Карениной»). Да он — что новая станция, то вновь и изменяет прелестной своей Долли: так за это его не только общество не судит, но даже и старый добрый камердинер «осерчал на барыню», что та вздумала обидеться. В чем же дело? И особенно, в чем оно, когда в нами читаемой Св. Библии случай с Иаковом, жившим одновременно с Рахилью, Лией, Валлой и Зелфой, дает картину, точь-в-точь повторенную тунисцем и мормонами? Решительно невозможно этого постигнуть иначе (и ведь что за дело Парижу до довольства или недовольства тех четырех тунисских жен? до их счастья или несчастья? Ведь тысячи проституток сгнивают, несчастные ни в каком случае не менее, чем четыре эти «несчастные» женщины?), — итак, говорю я, невозможно постигнуть этого иначе, как что это есть отношение (общества) к фактическому разрушению, в самом быте, в самой жизни, того «основного христианского настроения духа», которое, увы, у М.А. Новоселова одно с Вольтером и Штраусом. Пусть Штраус написал «Жизнь Иисуса»: да, но он — в (предполагаемом) «настроении Иисуса», меланхолическом, печальном; «он христианин» (по основному настроению); Гейне пел стишки — а все же был меланхоликом. Наконец, Нана — она сгниет в болезни и «раскается». Все — «основные христианские настроения». Наконец, если мы возьмем завсегдатая публичных домов, то ведь и его не может не тошнить всю жизнь от них: опять — «основное настроение христиан». Оттого-то «блуд» слишком прощен, ибо он — пакость, от него — тошнит, и «основное настроение» М.А. Новоселова — цело. Везде оно цело, в крутящемся и мрачном Париже, на балу, в театре, в балете: ибо на дне всего этого — горечь и ясное отчаяние. Но странный тунисец, в прихотливой судьбе своей, ступил на точку, где отчаяние, и мрак, и раскаяние — и в конце не предвидится; просто — их нет, как и у Иакова, «благословившего дни свои и приложившегося к отцам» (умер). Мука, боль, побои, измена, обман — выключены из семьи таинственным исчезновением ревности в ней; а искание общества, балета, театра, сих лекарств домашней скуки, упразднено тем, что собственный обширный дом уже есть общество, с разнообразием психологии, привычек, манер, обычая, с тем неравенством и волнением, психическим и бытовым, отсутствия коего не выносит человеческая душа (асимметричность души). Что этот тунисец был из скромных скромный француз, не искатель балета, не зарящийся на барышень, не человек, который дому предпочитает клуб и жене — друзей, это само собою чувствуется из всего его поведения: чувствуется, что он на немногих — слишком немногих для нас — точках сосредоточил всю свою душу, без разделения и рассеяния. И вот, ступив на эту точку полного исключения решительно всех «основных христианских настроений», меланхолически-порочных, раскаянно-жестоких (битье жен), слабонервно-лукавых (измена женам), — он вышел вовсе и из христианского общества, разорвал не с Парижем или Франциею, не с друзьями или родными, но с цивилизациею, культурою! И друзья, родные — вступились за цивилизацию и не подали ему руки. Иначе объяснить этот комплекс идей, чувств, отношений — нельзя. Так вот, значит, в чем дело: не в Вольтере, не в Штраусе; не в атеизме или пороке; центр — в счастье без капли горечи в заключение. Без weltschmerz (мировая боль (нем.)). Капля-то чернильная на конце длинной строки о «христианстве» и «добродетелях его», — эта капля и решает все. Всем строкам предыдущим, розовым, голубым, — она сообщает заключительный смысл. Отсюда

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

«Последние листья» (1916 — 1917) — впечатляющий свод эссе-дневниковых записей, составленный знаменитым отечественным писателем-философом Василием Васильевичем Розановым (1856 — 1919) и являющийся своего рода логическим продолжением двух ранее изданных «коробов» «Опавших листьев» (1913–1915). Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию.

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.
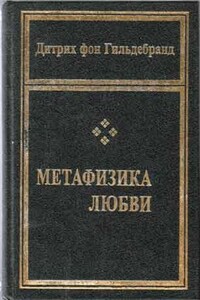
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
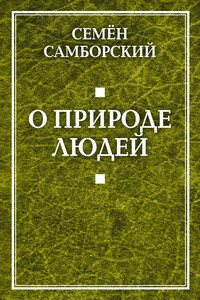
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.
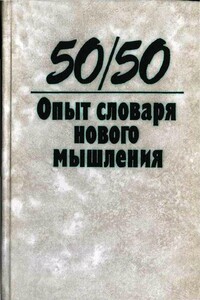
Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.
