Спокойствие - [41]
— Я и не думаю, — сказал я.
Она сковырнула пальцем со стены отстающую краску. Отвалился кусочек, она взяла его в рот, потом выплюнула.
— Я забыла, — сказала она. — Представляешь, забыла.
— Что ты забыла? — спросил я.
— Лекарство. Принять лекарство, — сказала она и наконец расплакалась.
Мы стояли в длинных сермяжных одеждах на берегу Дуная, в какой-то заболоченной местности. Вниз по течению плыла лодка, в ней ребенок лет семи-восьми тоже в сермяжной рубашке, с завязанными глазами. Когда она поравнялась с нами, мальчик снял с глаз черный платок и пристально на нас посмотрел. Ни вопроса, ни упрека не было в его взгляде. Он просто посмотрел на нас, потом снова накрыл глаза платком, и лодка поплыла дальше. Она уже исчезла в дымке, как вдруг я понял, что на веслах никого не было. И река перед нами застыла в неподвижности.
Сколько раз я рассказывал Эстер свои сны. До рассвета она лежала рядом со мной, и, если бы кто-то увидел нас в эти часы, подумал бы — вот она, идиллия, но до идиллии было далеко, как до звезд. Это скорее походило на то, как мужчина рассказывает новой любовнице о своих прежних, чтобы успокоить ее, ведь она хочет знать о нем все, и мужчина тут же попадает в ловушку. Сначала вспомнит пару мелких случаев, потом начинает выдумывать и в какой-то момент замечает, что женщина до крови искусала губы и искромсала окурки в пепельнице. Да, наши ночные разговоры очень напоминали обычные мужские рассказы о бывших. Эстер никогда не расспрашивала меня о прежних любовницах, но она цеплялась к моим снам, и несколько лет я думал, что она ревнует к ним из-за мамы. Потом выяснилось, она с таким упоением слушает про них потому, что сама она уже много лет не помнит ни одного своего сна, от этого она словно лишалась половины жизни.
— Вряд ли я когда-нибудь тебе снилась, — сказала она.
— Я специалист узкого профиля. Меня интересуют исключительно кошмары, — сказал я и не стал рассказывать ей сон про лодку и про мальчика, думаю, ей бы не понравилось.
— Когда был первый? — спросил я.
— Не спрашивай, мы договорились, — сказала она.
— Теперь все по-другому. Я должен знать.
— А вот и не по-другому. Все то же самое, понял? То же самое.
— Ради бога, я с ума сойду.
— Успокойся, ты никогда не сойдешь с ума, — сказала она.
— Лучше бы ты дала мне пощечину, было бы не так больно.
— Я тоже никогда не сойду с ума. Теперь лучше?
— Лучше ударь меня, но не молчи, как могила.
— Твои сравнения с каждым разом все ужаснее, — сказала она. — Уйди, прошу тебя.
— Я никуда не уйду. Прежде ты так со мной не разговаривала.
— Как хочу, так и разговариваю, уйди, ради бога.
Я ушел не попрощавшись, но едва я вышел из подъезда, как увидел, что какой-то мужчина спускает со второго этажа рождественскую елку. Сухие хвоинки, кружась, падали в грязь, когда елка приземлилась, женщина, ожидавшая на тротуаре, еще раз окинула взглядом красные станиоли, не осталось ли где конфет, перерезала маникюрными ножницами шпагат, словно пуповину, и бросила елку между двумя припаркованными машинами.
— Скажи детям, пусть принесут веник, — крикнула она мужчине, высунувшемуся из окна.
— Вот еще, — сказал мужчина.
— Я хочу подмести. Пусть эта Дорак не пеняет мне, что я развела тут свинарник.
— Я сброшу веник из окна, — сказал мужчина.
— Не бросай, упадет на машину, и, когда я вошел в подъезд, по лестнице уже летел ребенок с веником под мышкой и в джинсовой ковбойской шляпе на голове, которую ему наверняка принес младенец Иисус, и я расслышал, как мать сказала ему, на вот, возьми, и, полагаю, вложила ему в руку последнюю конфету с елки.
Эстер лежала на матрасе и рыдала, все ее тело тряслось, точно от электрошока.
— Я никогда больше не буду так уходить, — сказал я и лег рядом с ней. Она забралась ко мне под пальто, но даже там в укромной тишине она оставалась безнадежно одинокой, как те, для кого Бог забыл сотворить мир.
— Великолепно, великолепно! Только чуть экспрессивнее, все-таки это Паганини, — сказал преподаватель Вагвелдьи.
— Партитура Паганини, скрипка моя, — сказала Юдит, на что преподаватель попросил, чтобы свои остроумные комментарии она оставила на потом, для журналистов, тогда Юдит взяла инструмент и положила на кафедру. — Пожалуйста, тогда играйте, как я, и кривляйтесь, а я послушаю, — сказала она. Все замерли в оцепенении, Юдит повернулась и вышла из зала. Ее не стали выгонять из музыкального училища, поскольку в этом случае она не смогла бы защищать честь страны в Белграде. И в последний месяц Юдит очень редко заглядывала в училище, потому что занималась по двенадцать часов в сутки. Ноты были для нее чем-то вроде пустоты, оставленной человеческим телом в застывшей лаве, пустоты, которую исполнитель должен заполнить собой. Поэтому она исписывала и изрисовывала партитуру разными значками и пометками. Начало — скорый у Зугло [6], мать в агонии (вторая пол.), Греко: кающаяся Магд. — примерно так были исчерканы все ноты за несколько недель до того, как она приступила к репетициям.
— Хватит уже. Ты окочуришься, — сказал я.
— Не сейчас, — сказала она, опустила печенье в стакан с кефиром, положила в рот, затем снова натерла смычок канифолью и начала сначала. Интересно, ей никогда не приходило в голову схитрить, порвать струну и наблюдать потом за произведенным эффектом. Наверное, тем, кто смотрел, как она играет, сперва было скучно глядеть на сцену — исполнительница спокойно стоит, прямая, словно тополь. Но потом зрителям становилось не по себе, им уже хотелось кричать — пусть уж она лучше рухнет. Сломайте ей позвоночник, подрубите ее топором, только пусть не стоит она вот так, сдвинув ноги и закрыв глаза, потому что от этого с ума можно сойти.

Жо только что потерял любовь всей своей жизни. Он не может дышать. И смеяться. Даже есть не может. Без Лу все ему не в радость, даже любимый остров, на котором они поселились после женитьбы и прожили всю жизнь. Ведь Лу и была этой жизнью. А теперь ее нет. Но даже с той стороны она пытается растормошить его, да что там растормошить – усложнить его участь вдовца до предела. В своем завещании Лу объявила, что ее муж – предатель, но свой проступок он может искупить, сделав… В голове Жо теснятся ужасные предположения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
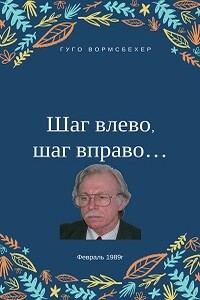
1989-й год для нас, советских немцев, юбилейный: исполняется 225 лет со дня рождения нашего народа. В 1764 году первые немецкие колонисты прибыли, по приглашению царского правительства, из Германии на Волгу, и день их прибытия в пустую заволжскую степь стал днем рождения нового народа на Земле, народа, который сто пятьдесят три года назывался "российскими немцами" и теперь уже семьдесят два года носит название "советские немцы". В голой степи нашим предкам надо было как-то выжить в предстоящую зиму.
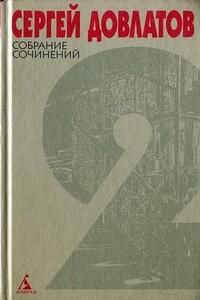
Второй том Собрания сочинений Сергея Довлатова составлен из четырех книг: «Зона» («Записки надзирателя») — вереница эпизодов из лагерной жизни в Коми АССР; «Заповедник» — повесть о пребывании в Пушкинском заповеднике бедствующего сочинителя; «Наши» — рассказы из истории довлатовского семейства; «Марш одиноких» — сборник статей об эмиграции из еженедельника «Новый американец» (Нью-Йорк), главным редактором которого Довлатов был в 1980–1982 гг.

Карсону Филлипсу живется нелегко, но он точно знает, чего хочет от жизни: поступить в университет, стать журналистом, получить престижную должность и в конце концов добиться успеха во всем. Вот только от заветной мечты его отделяет еще целый год в школе, и пережить его не так‑то просто. Казалось бы, весь мир против Карсона, но ради цели он готов пойти на многое – даже на шантаж собственных одноклассников.
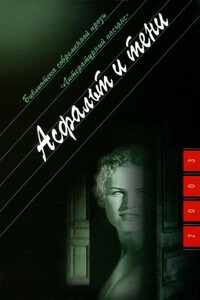
В произведениях Валерия Казакова перед читателем предстает жесткий и жестокий мир современного мужчины. Это мир геройства и предательства, мир одиночества и молитвы, мир чиновных интриг и безудержных страстей. Особое внимание автора привлекает скрытная и циничная жизнь современной «номенклатуры», психология людей, попавших во власть.