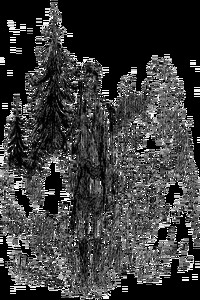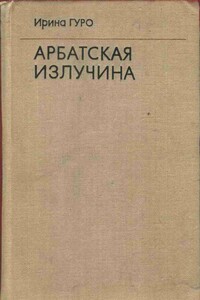…Глуоснис молча вперил назойливый, выжидающий взгляд в Даубараса.
Холодно-любезно улыбаясь, медленным, но точным, уверенным движением тот открыл светло-желтый портфель-дипломат», который держал на коленях, достал оттуда довольно пухлую, красную, перевязанную зеленой нейлоновой тесьмой папку и, словно раздумывая, что с ней делать, положил на ладонь левой руки и, продолжая пристально глядеть, медленным хозяйским движением осторожно и постепенно приподнял: так обращаются лишь с особо ценными предметами.
Как и положено в подобной ситуации, Глуоснис (редактор!) тоже не спеша проследил взглядом за этой папкой от портфеля до угла стола, куда Даубарас поместил ее, точно бьющийся предмет; тяжелая жилистая рука Даубараса припаянной чугунной глыбой так и осталась лежать на красной пластмассовой корочке.
«Какие мы все одинаковые!.. — подумал Глуоснис, глядя на прилипшую к папке руку Даубараса. — И пробующие свои силы школьники, и завершающие свою карьеру (только как знать, завершающие ли) претенденты на бессмертие… эти, пожалуй, еще упорнее… И чего ему, скажите на милость, дрожать… такому большому начальнику?..»
А рука дрожала — эта тяжелая, точно чугунная глыба, казалось бы созданная лишь для властных повелевающих жестов, подернутая рыжевато-бесцветными волосками рука, которую лучше бы спрятать под стол, чем нахально демонстрировать, да еще кому — Глуоснису; но Даубарас по-прежнему держал ее, крепко прижимал ладонью папку, точно дверцу клетки, за которой, сгорая от желания вырваться и обрести свободу, металась и билась дорогая, не виданная в этих краях птица: поднимешь ладонь — упорхнет; дрожала едва заметно, даже едва ощутимо, но так, что Глуоснис — не редактор, а пишущий сам — это чувствовал как электрический ток; в самом деле, все мы одинаковы…
«Только не смейся… — сказал Даубарас и сам ухмыльнулся, точно кого-то (вдруг самого себя) вышучивая. — И ознакомься незамедлительно. Тут мое мнение по этому самому вопросу… И кое-каким еще. Помнишь, мы с тобой говорили?..»
«Когда?..» — подкатило к горлу, но Глуоснис промолчал. Он вспомнил.
«Памятник народу… — выплыло как из тумана, сквозь мутную дымку лет, в которой колыхались такие же позабытые, подернутые пеленой лица… Книга должна быть памятником народу…»
И еще: «Обожди… услышишь и о Даубарасе… Как только позволят условия и как только товарищ… э… товарищ наконец поймет, что художественное творчество некоего Даубараса важнее, чем…»
А это когда? Эх, да разве имеет значение, когда… В давно забытое время… доисторическое…
«Это низость!..» — выкрикнул Глуоснис, чуть не срываясь на визг. Тогда, в это давно забытое, даже доисторическое время… И «это ни-зость!..» смутным вздохом повторилось спустя много лет в служебном кабинете редактора Глуосниса, когда Даубарас, излучая силу и уверенность, явился с этой толстенной красной папкой, обвязанной зеленой нейлоновой тесьмой; возможно, Глуоснис даже произнес «это ни-зость!» вслух, громко — во всяком случае, ответ Даубараса он слышал вполне отчетливо:
«Если мы всегда будем ломать голову над тем, что низко и что возвышенно… И если только это будет составлять основу наших надежд и практических стремлений…»
«А что будет составлять? Что?» — чуть не выкрикнул Глуоснис, но Даубарас уже поднялся — тогда, — оставив на полу раскиданные бумаги; в трубах выла, шумела вода (забудь, забудь, забудь); это было давно, уже после войны и даже после всего, как любил говаривать Даубарас; вот теперь он здесь, а то, что, возможно, было лишь попыткой… или даже угрозой этакому нерасторопному и бесталанному Глуоснису… этому выскочке… нынче… нынче… когда Глуоснис, похоже, и сам понял…
Понял? А что? То, что он — пшик? (Неужели?) То есть то, чем жил столько лет… все мечты о своей главной (может, самой главной за всю жизнь) книге, в которой романтические порывы юности будут наконец подняты на такую высоту современности, с которой… Ах, лучше помолчать! Лучше уж тебе, старик, помолчать, потому что в жизни, кажется, все же была допущена ошибка… но вот где?.. Какая?..
«Я слышал, мне говорили… — он кивнул, будто избегая думать, думать о том, что его страшило. — Будем читать…»
«Ты, ты сам?..»
«И я… Как все… и как всех…»
«Все-таки, может, как меня?.. Как Даубараса!.. Своего старого знакомца Даубараса… не откладывая в долгий ящик…»
«Да, да, конечно!.. Только вот… уезжаю…»
«Разве я что говорю?..»
«Это о чем? О поездке?»
«Именно… Езжай».
«А тогда о чем речь, товарищ Даубарас?..»
«О том: когда тебе срочно требовалось узнать мое мнение я тоже… не откладывая… твой роман… этот самый…»
Глуоснис почувствовал, как его захлестнуло горячей волной.
Мнение? Мне требовалось? Мне? Позарез?.. Твое, Даубарас, мнение?.. Неужели там, в Ванагай?..
Сглотнул, промолчал. Он был уже не тот, не прежний Глуоснис, бедняга Глуоснис, которого можно было шпынять (или это просто кажется сегодня, что можно было), и Даубарас не тот (хотя все еще его начальник, а уже не тот), несколько грузноватый и раздавшийся, развалился в кресле напротив; и даже рука — эти малость по-стариковски (да, да, Даубарас) подрагивающие пальцы — была убрана с папки; кое-что в мире сем все же изменилось. И прежде всего — люди, неужели Даубарас этого не чувствовал?