Сперанский - [4]
Мне представляется, что вся эта история с планом государственного преобразования была смелым и рискованным экспериментом — пусть и проведенным на чисто теоретическом уровне. Причем на эксперимент этот верховная власть в лице «заказчика» — Александра — и исполнителя — Сперанского — пошла не из желания кому-то угодить и кого-то успокоить, а из государственных соображений высшего порядка. Мне представляется, что заявления о стремлении «ограничить деспотизм», которые в начале своего правления неоднократно делал Александр I, порождались не столько «возвышенными мечтаниями» в духе уроков Лагарпа, сколько ясным и вполне разумным сознанием проблем, реально существовавших в Российском государстве.
После восшествия на престол Александр I как человек, тонко чувствовавший ситуацию, все яснее должен был осознавать пороки самодержавного строя. Если даже счесть его замечания относительно деспотизма безответственной бюрократии по отношению к массе населения сугубо демагогическими — что, я думаю, было бы совсем не верно — то ведь у системы, господствовавшей в России, были и такие черты и качества, которые угрожали уже не народным, а собственным интересам Александра как главы государства. В условиях резкого падения своей популярности царь неизбежно должен был поразмыслить о том, почему заговоры и перевороты стали обычным, почти заурядным явлением в России именно после того, как в начале XVIII века Петр I своими реформами обеспечил здесь полную и окончательную победу самодержавно-бюрократическому строю?
Ответ, как мне представляется, напрашивался: концентрация всей возможной власти в одних руках порождала соблазн эту власть свергнуть… Дворцовые перевороты идут один за другим именно тогда, когда власть сосредоточивается в одних руках, в одном тронном зале.
На первый взгляд самодержавный строй, к которому Россия пришла в XVIII веке, был воплощенным идеалом для ее правителей: вся власть в твоих руках, никто и ничто тебе не помеха, управляй, как хочешь! Но любой самодержец по неизбежности вынужден был управлять, опираясь на тех, кто «толпился у трона», на тех, кто составлял серьезную социальную силу… Бюрократы-сановники, высший свет, гвардия плотным кольцом охватывали главу государства; на местах представители верховной власти тоже надежно были «окольцованы» поместным дворянством. Вся прочая Россия терялась за этим средостением… Чиновник и дворянин-помещик были определяющей силой в России, и если этой силе нечего было противопоставить, то глава государства неизбежно попадал в самую серьезную зависимость от нее. Он вынужден был управлять, считаясь с теми, кто окружал его в столице, с теми, кто оказывал давление на власть на местах. Иначе…
Екатерина, бабка Александра, отлично понимала, что скрывается за этим «иначе», и потому раздавала направо и налево в помещичьи руки сотни тысяч десятин земли вместе с государственными крестьянами, жаловала дворянству в целом всё новые привилегии, а его избранным представителям «во власти» — чины и ордена, нередко за заслуги весьма сомнительные, старательно закрывая глаза на явные, вопиющие их злоупотребления.
Павел же, отец Александра, у которого при всей его взбалмошности было искреннее стремление к порядку и справедливости (пусть и очень своеобразно понимаемым), пытался с этими злоупотреблениями бороться — и был убит гвардейскими офицерами — дворянами, возглавляемыми одним из высших сановников империи!.. Когда вся власть оказалась сосредоточенной в одних руках, когда один-единственный человек стал нести ответственность за все, что происходило в стране, у недовольных, которых хватает при всяком порядке, появился страшный соблазн: изменить положение дел «к лучшему» одним ударом — табакеркой, вилкой, чем угодно.
Обойтись без сановников, придворных, гвардии, лишить дворянство влияния на местах Александр I конечно же не мог, да и не собирался. Но хорошо затвердив азы просветительства, молодой царь знал, что в теории эту, опасную своей косной мощью систему можно — и нужно! — уравновесить другой, отличной от нее в принципе. Для стабилизации государственного строя следовало попытаться привлечь к управлению страной и в центре, и на местах выборных представителей разных слоев населения, которые работали бы не на верховную власть, а на это население: в отличие от чиновников-бюрократов, назначаемых сверху, выборные должны были бы в своей деятельности принимать во внимание прежде всего пожелания тех, кто их выбрал. На местах — в волостях, уездах и губерниях — выборные решали бы хозяйственные проблемы, создавали бы школы и больницы; в центре, в тесном сотрудничестве с верховной властью, принимали бы участие в совершенствовании законодательства.
Помимо того, что подобная система оживила бы местную жизнь и придала бы законодательной работе более органичный характер, она могла бы стать надежной опорой верховной власти, обеспечив ей большую самостоятельность и независимость по отношению как к бюрократии, так и к корпоративным дворянским собраниям. В самом деле власть, опирающаяся на сотни органов самоуправления, разбросанных по всей России, имеющая за собой выборный законодательный орган, — такая власть приобрела бы стабильность и внутреннюю силу, немыслимую при самодержавно-бюрократическом строе. Ее уже нельзя было бы ликвидировать одним ударом — убийством, заговором, дворцовым переворотом…
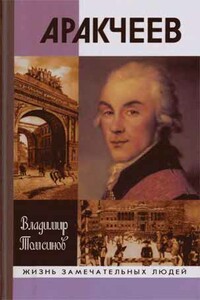
Документальное повествование о жизни и деятельности человека, с именем которого связана целая эпоха в истории России, — графа Алексея Андреевича Аракчеева. На основе архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, в книге дан образ крупного сановника, игравшего важнейшую роль в механизме самодержавной власти в конце XVIII — первой четверти XIX века, раскрываются тайные пружины его возвышения, подлинный смысл явления, получившего название «аракчеевщина». Колоритная личность Аракчеева изображена на фоне событий того времени, во взаимоотношениях с императорами Павлом I, Александром I и Николаем I, видными сановниками — М.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.