Современный родильный обряд - [8]
Прежде всего, родильный обряд подразумевает всеобщую вовлеченность — здесь нет деления на актеров и зрителей. О «перевернутом мире» в контексте родов мы уже говорили — это изменение ролей (по сравнению с «нормальной» жизнью — обычаем), символически отраженное в ритуале в виде переодевания, обнажения, поругания и т. п.
Важную роль играет и смеховое начало — атмосфера родов насыщена смехом и шутками: А принимали девчоночки — две или три их было — как-то они все хиханьки-хаханьки, так все весело, со смехом все это так быстренько и получилось (И18); Я помню вот разговоры — там присутствовали какие-то еще акушерки, которые были не заняты делами, рассказывали там анекдоты, еще что-то, и я все это хорошо помню (И38); Акушерка старалась нас развеселить, анекдоты какие-то рассказывала, говорила, что это такой день счастливый, что глупо рыдать, а надо напротив смеяться (Круглякова 1997); Одна санитарка нам всем очень запомнилась — общалась с нами, байки все время рассказывала (И12); У нас очень хорошая заведующая была <…> Она, помню, придет — и рассмешит, и настроение поднимет, но и требовательная была (И10).
В-третьих, важное место занимают образы материально-телесного низа. Распространены скабрезные шутки, неуместные и невозможные в какой-либо другой ситуации и отсылающие к сексуальным отношениям между роженицей и врачом: Во время родов, когда мне надавили на живот, и я вскрикнула: «Ой, не ложитесь на меня!», акушерка сказала: «Слышите, доктор, не ложитесь на беременную женщину!» Вот такие подробности. Обычно шутили, говорили. Обстановка была деловая, но веселая (И35); Я когда рожала, мне эту самую резали. Я ему говорю: ты мне эту самую под местным наркозом поаккуратнее режь, а то потом сам и будешь меня дырявую трахать. А он говорит: да я хоть щас засажу (Петрова 1968); Заведующий отделением «Петрович» почему-то считался бабником. Рассказывали, что он на кресле может ухватить за попу (!!) (Круглякова 1997).
Распространены и скатологические образы — к примеру, обычный педагогический прием для обучения потугам — аналогия с испражнением: А когда сами роды, говорили: «Ну что — давай-давай! Что ты — никогда у тебя запоров не было, что ли? Ты дуться не умеешь?» Я говорю: «У меня никогда не было, я не умею дуться». — «Ну, давай-давай-давай!» (И31) (или противопоставление оному: Я закричала: «Пустите меня, я какать хочу», — рассказывала одна из них, а мне говорят: «Лежи и тужься — это ты рожаешь, а не какаешь» (И26). Прием этот иногда сопровождается наглядной демонстрацией предписываемых действий и является предметом шуток самих врачей: Она говорила, что у огромного числа студентов на таких практиках, кто на родах присутствует — у них чуть ли не непроизвольное выделение кала начинается, потому что они так тужатся вместе с роженицей, что потом им приходится срочно бежать в совсем другое место (И42).
Что касается «пиршественных образов», то и они присутствуют во время беременности: Тебе теперь нужно есть за двоих; Просто мой организм уже так начал расцветать, жрать, так он радостно ждал уже (И43). Наконец, главная идея карнавала — возрождение через смерть, представленную как погружение в материально-телесный низ, как нельзя более отвечает сути родильного обряда. Таким образом, мы находим в современном родильном обряде многие из основных составляющих карнавального начала, подробно описанного и проанализированного в книге М.М. Бахтина (Бахтин 1990).
По окончании процесса родов начинается третья фаза лиминального периода — инкорпорация иницианта в социум в новом статусе. Теперь, когда новый мир сотворен, необходимо дать имена всем отдельным элементам его ландшафта. Прежде всего, матери возвращается имя: Анестезиолог, огромный мужик, орал мне: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут?» (И37); Все время повторяют твое имя так довольно настойчиво. Ты должна — видимо, они хотят, чтобы ты делала усилие, чтобы все больше и больше сознание возвращалось. А усилие это делать не хочется. То есть слышишь свое имя в ушах — так: Маша! Маша! Маша! Маша! Это вносит какую-то панику, ощущение дискомфорта (И44). Это окликание матери можно интерпретировать как средство вернуть ее из «иного мира», из сферы «чужого» в сферу «своего»: «Не уплывай!» (И21). Тут же происходит называние пола ребенка и его имени: Тут они стали спрашивать: «Кто родился?» Это они, наверно, проверяли, хорошо ли я соображаю. Я говорю: «Мальчик…». — «А как мальчика зовут?» — «Сеня…» (И1); Когда ребенок родился, все стали спрашивать: «Кто? Кто?» — как клевали меня, а я никак не могла понять, чего они от меня хотят — а это они имели в виду, чтобы я отреагировала, какого пола ребенок (И3); Они спросили: «Как звать?» Я почему-то сразу сказала: «Соня» (И17). По мере того как ребенка обмывают, обмеряют, взвешивают, оценивают его по шкале АПГАР и т. д., он все больше переходит в сферу «своего», в «человеческий» мир (ср.: Свирновская 1998: 241–242). Однако он все еще сохраняет черты существа «не от мира сего» — по имени его пока не называют, вместо этого ему присваивается определенный номер, под которым он числится в роддоме. К женщине снова начинают обращаться на «Вы», ее называют «мамочкой».

Молодой филолог и акын Псой Галактионович КОРОЛЕHКО хочет познакомить вас с подборкой страшилок, записанных в Москве и Подмосковье студентами спецсеминара Е. А. Белоусовой «Современная городская культура» (факультет социальной и культурной антропологии РГГУ). В страшилках отражены представления и верования, связанные с компьютером и Интернетом. Мы благодарим руководителя спецсеминара за интересный и поучительный материал, от себя же добавляем: «Hе бось!».

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
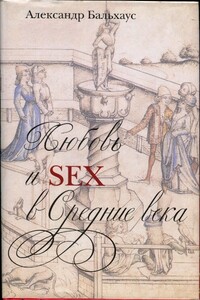
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!