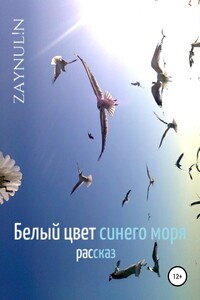Современная проза Сингапура - [2]
Далеко не все уже помнят те времена, когда Британская Малайя приковывала к себе внимание всего мира. В конце 40-х — начале 50-х годов здесь шла жестокая борьба: возглавляемые преимущественно китайской по своему составу компартией Малайи и состоявшие также в основном из китайцев партизаны самоотверженно старались очистить малайскую землю от британских оккупантов и сплотить под своим красным флагом народы Малайи. В это же самое время группа увлеченных литературой молодых сингапурцев приступила к решению другой задачи — созданию литературного языка, призванного послужить мирному объединению этих народов. Основой этого языка должен был стать английский.
Честь и слава идеям, с неправдоподобной, волшебной легкостью самозарождающимся в питательном университетском бульоне! Призванные навеки запечатлеться в памяти человечества или обреченные на немедленное забвение, они чаще всего бывают продиктованы лучшими порывами человеческой души. Именно так и родилась среди студентов Сингапурского университета идея ингмалчина — англо-малайско-китайского поэтического языка, в котором богатейший потенциал местной, «тропической» образности должен был реализоваться с помощью выразительных средств всех трех «составных» языков.
Уже в конце 50-х годов один из поборников ингмалчина, ныне крупный историк Ван Гунву напишет, что английский язык был положен в основу ингмалчина просто потому, что он оказался под рукой, в то время как Вану и его товарищам не терпелось создать поэзию, в которой нашла бы выражение сама Малайя с ее образами и чувствами. Иными словами, молодые поэты попросту не владели никаким другим литературным языком, кроме английского. Но, принявшись за свои первые литературные опыты, они осознали не только неисчерпаемые возможности этого «емкого, всеобъемлющего языка с его умопостижимой, гибкой, вселяющей уверенность мощью и постоянной способностью передать любую свежую и глубокую мысль» [3]. Они ощутили одновременно возможность преодоления тех перегородок, которые разделяли различные национальные общины Сингапура и Малайи и, казалось, только укреплялись с развитием китайской, малайской и тамильской литератур. Замаячила отдаленная и захватывающая перспектива преображения «деколонизованного» английского во всеобщий литературный язык будущей независимой Малайи. Таким образом наметился путь в грядущее, и на этот путь решительно вступили сын тамила и китаянки Эдвин Тамбу, китайцы Вон Фуйнам и Ван Гунву, евразиец Ллойд Фернандо и еще несколько молодых стихотворцев — их единомышленников.
Будущее оказалось, правда, не совсем таким, каким оно представлялось в начале 50-х годов. Скоротечный альянс получивших наконец независимость Малайи и Сингапура окончился в 1965 г. решительным выходом островного государства из Федерации Малайзия. Вскоре после этого англоязычная литература была разоблачена в Малайзии как жалкий призрак колониальной эпохи, пытающийся узурпировать права бесспорной и смелой выразительницы народных чаяний, национальной литературы Малайзии, а именно литературы на малайском языке (китайская и тамильская литературы были отнесены здесь к субнациональным, «племенным» литературам). Неудивительно поэтому, что первые ростки англоязычной литературы в Малайзии начали глохнуть, что же касается Сингапура, то здесь англоязычная литература медленно пошла в гору, по мере сил выполняя — в пределах Сингапура — ту задачу, которую ставили перед ней ее зачинатели.
Чаяния интеллигенции далеко не всегда оказываются созвучными линии правительств. Волевой и прагматичный Ли Куанъю — лидер Партии народного действия и бессменный премьер Сингапура — постепенно пришел, однако, к убеждению, что «рабочий язык» местного общества — английский позволит объединить плюралистичное, а по сути дела разделенное на несообщающиеся отсеки общество города-государства и в то же время помешать его превращению в «маленький Китай». Отсюда наметившийся уже в середине 70-х годов курс на повышение уровня преподавания английского, ограничение сферы применения диалектов и обращение «мандаринского» во «второй язык» сингапурских китайцев. По словам советского этнографа А. М. Решетова, правительство поставило перед собой цель добиться «сплочения всех этнических групп в Сингапуре на основе английского языка, формируя, таким образом, новое единство — „сингапурский народ“ и воспитывая „сингапурский патриотизм“» [4]. Население Сингапура чутко прореагировало на план правительства превратить английский с 1987 г. в основной язык преподавания в местных школах: уже в 1983 г. лишь один процент сингапурских родителей отдавали своих детей в школы с преподаванием на «мандаринском» языке, а число сингапурских китайцев, говорящих как на китайском, так и на английском языке, возросло в 1980 г. по сравнению с 1970 г. в 2,5 раза, составив 30 % жителей страны.
Возросшему сообществу англоязычных поэтов и прозаиков Сингапура линия Ли Куанъю придала надежды на будущее, увеличив, в частности, число потенциальных читателей их произведений (к ним можно причислить сегодня около 10 % населения Сингапура). Немногие из сингапурских литераторов, пишущих на английском, разделяют энтузиазм такого маститого ныне поэта, как Эдвин Тамбу, для которого англоязычный поэт — это мессия, призванный создать в своих произведениях национальную мифологию, выразить «коллективную душу» Города:
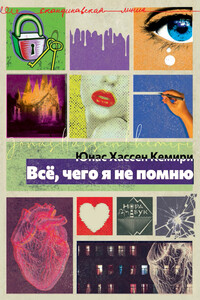
Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.
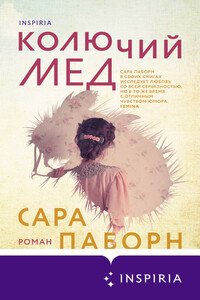
Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.
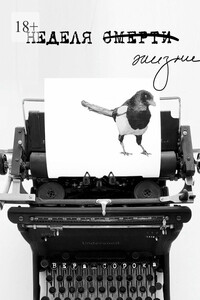
Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.
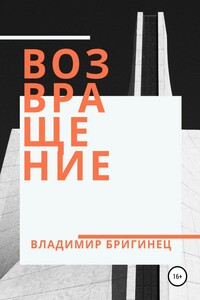
Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
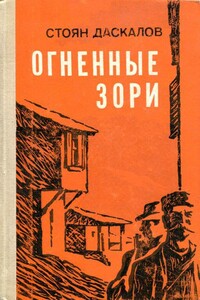
Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.