Современная американская повесть - [2]
Пусть писатель передаст эту историческую масштабность косвенно, иносказательно, пусть даже оставит ее «за кадром» — она должна чувствоваться, и тогда повесть приобретет значение незаменимого художественного документа: не разведка темы, не заготовка к будущему эпосу, а полноправное эстетическое свершение.
Так произошло со всеми шестью повестями, составившими эту книгу.
Их нелегко сравнивать. У каждого из писателей своя творческая индивидуальность, свои давно определившийся круг интересов, героев, проблем. Пронзительный лиризм, музыкальную ритмику Джеймса Болдуина не спутаешь с суховатой, фактографичной, почти протокольной манерой повествования Джеймса Джонса, а безыскусность, психологическая убедительность рассказа Тилли Олсен не похожа на острую гротескность Джона Херси, погружающего читателя в какой-то полуреальный и тем не менее легко узнаваемый мир. Под одним переплетом уместились сатира и исповедание, фантазия и документальность, и гамма эмоциональных оттенков неподдельно широка — трагизм, печальная ирония, мужественная вера в человека, вопреки всему злу, которое его окружает. В какой-то мере читатель может судить по этой книге о пестроте настроений и многоликости художественных исканий, отличающих современную американскую прозу.
И все-таки есть нечто общее, что различается в каждой из повестей, о чем бы и как она ни была написана. Словно дополняя одна другую, эти повести контурно очерчивают портрет Америки на большом и трудном отрезке ее исторического пути — от начала 30-х годов до середины 70-х. И разными дорогами, но в итоге непременно, они приводят к некоторым узловым проблемам американской жизни, лишь осложняющимся и обостряющимся от десятилетия к десятилетию, идет ли речь о расовых конфликтах или о военной машине, калечившей и продолжающей калечить людские судьбы. Или о человеческой разделенности, об одиночестве, не компенсируемом никаким «всеобщим благоденствием». Или о призрачности самого этого благоденствия.
Джон О’Хара как-то заметил, что для него было бы высоким счастьем ощутить себя рассказчиком-пилигримом из тех, что в Средневековье сходились на рыночной площади или в таверне, каждый со своей историей, понятной и интересной для любого слушателя, потому что, в сущности, все они говорили об одном — о превратностях судьбы и стойкости человека, сражающегося против выпавшего ему несправедливого удела. Сегодня писателям порой не так легко услышать даже друг друга — слишком велики расхождения не только во взглядах на литературу, но и в общественных взглядах, в мироощущении. Писателей, представленных в этом сборнике, тоже многое разделяет, но важнее другое — то, что их связывает. Это честность и тревога — за общество, за человека, за судьбы гуманистических идеалов.
В этом все они едины. И может быть, каждый из шести не почувствовал бы себя чужаком среди остальных, если бы и вправду они на миг перенеслись в те давние времена, когда не существовало ПЕН-клубов, но зато существовало литературное братство, в которое доступ был открыт каждому, кто на встрече рассказчиков произносил традиционное для таких случаев приветствие и слова: «Мой черед».
Тогда рассказ должна была бы начать Тилли Олсен (род. в 1915 г.) — не по праву старшинства, а потому, что хронологически ее повесть самая ранняя из шести. Советский читатель впервые знакомится с ее творчеством. Впрочем, и для американцев это фактически новое имя. До появления «Йоннондио тридцатых годов» об Олсен знала лишь аудитория журналов левой ориентации, издающихся скромными тиражами.
Удивительна судьба этой книги. Написанная еще на исходе 30-х годов, по горячим следам событий, о которых она рассказывает, повесть Олсен тогда не увидела света, и потребовалось три с лишним десятилетия, прежде чем писательница обнаружила свою рукопись среди старых бумаг, дополнила ее и напечатала. Еще удивительнее, что без авторского послесловия к изданию 1974 года вряд ли кто-нибудь догадался бы, как долго дожидались своего срока эти страницы, повествующие о «великой депрессии» начала 30-х, о бедствиях, несправедливости, бездомности, страданиях, сделавшихся привычной повседневностью для миллионов людей в ту суровую пору. Повесть нисколько не устарела. Современным читателям она говорит ничуть не меньше, чем сказала бы поколению, пережившему предвоенное «красное десятилетие».
Во многом это объясняется перекличкой эпох. В 70-е годы развеялся миф о «великом обществе», якобы обеспечивающем процветание всем и каждому, и вновь острую злободневность приобрели для американцев вопросы, которыми определялось умонастроение да и весь общественный климат в канун второй мировой войны, — прежде всего вопрос о подлинной социальной справедливости, о пропасти, разделившей благоденствующих и отверженных, о непримиримости господствующего порядка вещей с естественным для человека стремлением к счастью. Кризис общества потребления оказался настолько глубоким, что потерпела банкротство вся его система ценностей и норм. И тогда особую значимость приобрело духовное наследие «красных 30-х». Оно было открыто заново, доказав свою немеркнущую актуальность. Оно помогло понять сегодняшние конфликты в их исторической перспективе, возвращая общественное сознание — и литературу — от следствий к первопричинам, к постижению коренных противоречий всего социального уклада американской жизни.
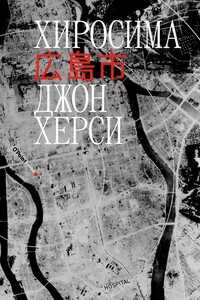
6 августа 1945 года впервые в истории человечества было применено ядерное оружие: американский бомбардировщик «Энола Гэй» сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Более ста тысяч человек погибли, сотни тысяч получили увечья и лучевую болезнь. Год спустя журнал The New Yorker отвел целый номер под репортаж Джона Херси, проследившего, что было с шестью выжившими до, в момент и после взрыва. Изданный в виде книги репортаж разошелся тиражом свыше трех миллионов экземпляров и многократно признавался лучшим образцом американской журналистики XX века.
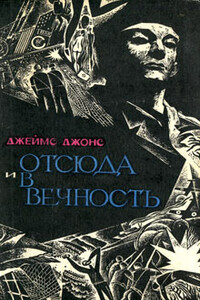
Роман американского писателя в острой обличительной форме раскрывает пороки воспитания и дисциплинарной практики, существующей в вооруженных силах США.Меткими штрихами автор рисует образы американских военнослужащих — пьяниц, развратников, пренебрегающих служебным долгом. В нравах и поступках героев романа читатель найдет объяснение образу действий тех американских убийц и насильников, которые сегодня сеют смерть и разрушения на вьетнамской земле.
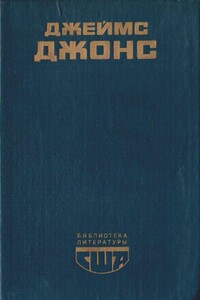
В центре широко популярного романа одного из крупнейших американских писателей Джеймса Джонса — трагическая судьба солдата, вступившего в конфликт с бездушной военной машиной США.В романе дана широкая панорама действительности США 40-х годов. Роман глубоко психологичен и пронизан антимилитаристским пафосом.

ХЕРСИ (Hersey) Джон Ричард (1914-93), американский писатель. Антифашистские романы ("Возлюбивший войну", 1959). Аллегорические романы ("Заговор", 1972) о свободе и долге, власти и насилии. Сатирическая антиутопия "Скупщик детей" (1960) о технократии. Роман "Ореховая дверь" (1977) о бесплодии "контркультуры" и обретении нравственных устоев.
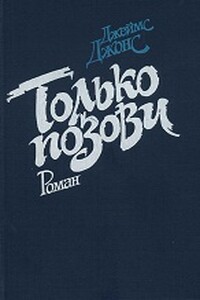
Изданный посмертно роман выдающегося американского прозаика Джеймса Джонса (1921–1977) завершает цикл его антивоенных романов. С исключительной силой изобразил он трагедию тех, кто вернулся с войны. Родина оказалась для своих сыновей самодовольной, равнодушной и чужой страной. Роману присущ ярко выраженный антивоенный пафос, он звучит резким обличением американской военщины.
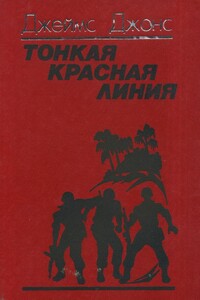
Рассказывая о боевых действиях одного из подразделений сухопутных войск США против японской армии в годы второй мировой войны, автор в художественной форме разоблачает быт и нравы, царящие в американской армии.Роман позволяет глубже понять реакционную сущность современной американской военщины и ее идеологии, неизлечимые социальные пороки капиталистического образа жизни.Книга предназначена для широкого круга читателей.
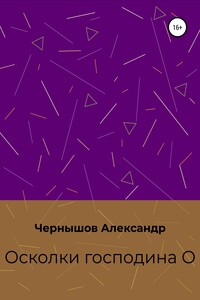
Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?
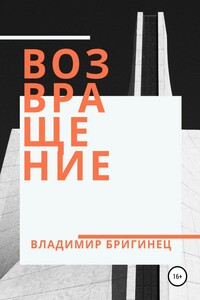
Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
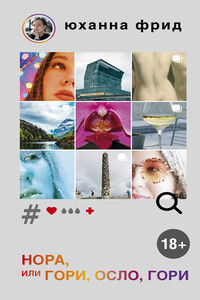
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.
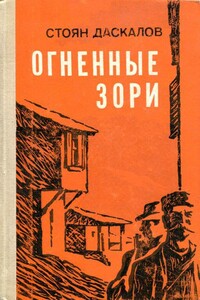
Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
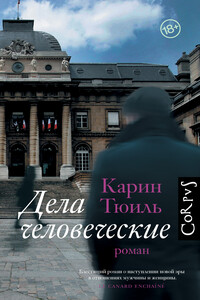
Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
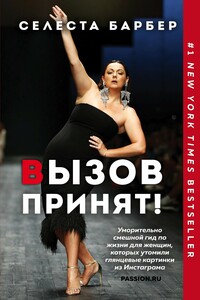
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.