Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель - [11]
«Однако: Гегель и Наполеон — это два разных человека, сознание и самосознание еще разделены. Но Гегель не любит дуализма. Будет ли снято это последнее противоречие? Это было бы возможно (еще бы!), «признай» Наполеон Гегеля, подобно тому как Гегель «признал» Наполеона. Ожидал ли Гегель (1806) быть призванным Наполеоном в Париж, чтобы стать там Философом (Мудрецом) всемирного и единого государства [и] разъяснять (оправдывать) — и может быть направлять — деятельность Наполеона?» [63]
Здесь Кожев оставляет гегельянские категории и переходит непосредственно к биографическим. Если в 1840‑е годы в России юный Герцен верил в то, что рукописи «бедного профессора» будут править миром не в меньшей степени, чем приказы властителя, то в 1937 году в Париже другой русский эмигрант, Кожев, рассуждал о надежде философа на пост в государственном аппарате.
Редактор, опубликовавший в 1979 году конспект лекции Кожева, с иронией замечает: «Предоставляю читателю исправить текст в соответствии с erratum, указанным Кайуа, — вместо «Наполеон», читать: Сталин» [64]. Добавлю — вместо «Гегель», читать: Кожев. Отождествляя себя с Гегелем, Кожев предвидит счастливый конец «встречи в Йене» властителя и интеллектуала. Он полон нового исторического оптимизма.
Имеются и биографические свидетельства в пользу такого чтения. Исайя Берлин — русский эмигрант, который представил западному читателю Герцена (в своей интерпретации), — вспоминал в 1988 году о своей встрече с Кожевым. (Интервью проводил иранский философ Рамин Джаханбеглу, эмигрант, живший в Париже, автор книги о Гегеле и Французской революции.) Кожев, как рассказал Берлин, рассуждал о Сталине в гегельянском ключе. Он поведал Берлину, что писал Сталину, но не получил ответа. О чем он писал? Берлин предположил: «Я думаю, что он отождествлял себя с Гегелем, а Сталина с Наполеоном. Он был склонен к чудачествам» [65].
Согласно воспоминаниям другого русского эмигранта (друга Кожева, фотографа Евгения Рейса), письмо Кожева к Сталину (длиной более ста страниц), отправленное через Советское посольство весной 1941 года, содержало «анализы, прогнозы, некоторые советы». К письму была приложена рукопись его лекций «Введение в изучение Гегеля» [66]. Ожидал ли Кожев, что Сталин прочтет и примет его прочтение Гегеля — утопию о встрече Властителя с Интеллектуалом?
(После войны Кожев занимал высокий пост во французском Министерстве внешней торговли; он считается одним из основателей идеи европейского сообщества. Он умер в начале июня 1968 года, то есть в дни другой французской революции. К этому времени он пришел к мнению, что Гегель все–таки был прав — человек, который знаменует собой конец истории, — это Наполеон, а не Сталин.)
Очевидно, что гегельянская завороженность Сталиным не была лишь «чудачеством» одного человека. Да и среди «попутчиков» Сталина в Европе не один Кожев говорил о Сталине как о воплощении гегелевского абсолютного духа. По словам югославского коммуниста Милована Джиласа, которому довелось встречаться и говорить со Сталиным, «власть и идея отождествлялись с ним, а он с ними… Как будто Гегелевский Абсолютный Дух, в отчаянном отождествлении с миром, наконец нашел для себя две формы: мистический материалист в Сталине, интуитивный мистик в Гитлере» [67]. Когда в 1969 году Джилас писал эти слова, он давно и окончательно разочаровался в Сталине, однако не отказался от гегельянского языка.
Языком гегелевского историзма — опосредованным первыми русскими интеллигентами–гегельянцами и их советскими исследователями — пользовались, как мы видели, интеллигенты советского времени. Пользовались и в 1930‑е годы, когда «Былое и думы» (а порой, как для Энгельгардта, и «Феноменология духа» или йенское письмо) представлялись путеводителем по улицам Москвы и Ленинграда, и в 1950–1970‑е, а затем вновь в 1980–1990‑е годы, когда в преданных гласности записках разных лет современники Сталина пытались подыскать объяснение своему опыту. В этот трудный момент на помощь пришли почерпнутые из классических книг парадигмы, метафоры, эмблемы. Как мы видели, для людей постсталинской эпохи эмблематическая ситуация «встречи в Йене» представлялась не такой, как Гегелю в 1806 году (и не такой, как Кожеву в 1937 году в Париже). Если в 1925 году Эренбург радостно заметил, что «время обзавелось теперь быстроходной машиной», то в 1960‑е годы он писал о людях своего поколения, которых «переехал автомобиль времени». Т. М. Литвинова, прочитав в 1995 году восторженное описание встречи со Сталиным из дневника Чуковского 1936 года, говорила о «желании броситься под колеса Джаггернаута». Светлана Аллилуева в 1960‑е годы писала о тех, кому хотелось, чтобы быстрее и быстрее крутились смертоносные колеса Времени и Прогресса. Ахматова (в 1965 году) видела в кошмарном сне, как за ней гонится «взбесившийся Джерринаут». После смерти Сталина оптимистическая эсхатология Гегеля сменилась образами истории на смертном марше, будь то Джаггернаут, броситься под колеса которого было делом осознанного выбора, или взбесившийся автомобиль, под колеса которого человек попадал случайно. Так казалось тем, кто склонен был отождествлять себя и «своих» с Герценом — как его интерпретировала Лидия Гинзбург.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

За последние десятилетия, начиная c перестройки, в России были опубликованы сотни воспоминаний, дневников, записок и других автобиографических документов, свидетельствующих о советской эпохе и подводящих ее итог. При всем разнообразии они повествуют о жизнях, прожитых под влиянием исторических катастроф, таких как сталинский террор и война. После падения советской власти публикация этих сочинений формировала сообщество людей, получивших доступ к интимной жизни и мыслям друг друга. В своей книге Ирина Паперно исследует этот гигантский массив документов, выявляя в них общие темы, тенденции и формы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
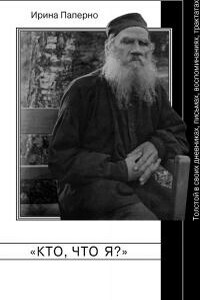
В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, — не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно — филолог, литературовед, историк, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.
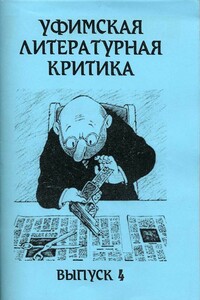
Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2005 г.: в журналах «Знамя», «Урал», «Ватандаш», «Агидель», в газетах «Литературная газета», «Время новостей», «Истоки», а также в Интернете.
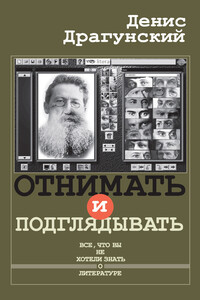
Мастер короткого рассказа Денис Драгунский издал уже более десяти книг: «Нет такого слова», «Ночник», «Архитектор и монах», «Третий роман писателя Абрикосова», «Господин с кошкой», «Взрослые люди», «Окна во двор» и др.Новая книга Дениса Драгунского «Отнимать и подглядывать» – это размышления о тексте и контексте, о том, «из какого сора» растет словесность, что литература – это не только романы и повести, стихи и поэмы, но вражда и дружба, цензура и критика, встречи и разрывы, доносы и тюрьмы.Здесь рассказывается о том, что порой знать не хочется.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.