Сон Бодлера - [3]
Еще один случай: «Прекрасное есть лишь обещание счастья»>{14}. Как видно, Бодлеру запали в душу эти слова Стендаля, коль скоро он трижды цитировал их в своих статьях. Он вычитал их в книге «О любви», что все еще прельщала узкий круг посвященных. Стендаль, само собой, имел в виду вовсе не искусство, а женскую красоту. То, что в этом знаменитом определении красоты не было никакого метафизического подтекста, следует из другой его книги — «Рим, Неаполь и Флоренция». Пять часов утра; автор в полупрострации возвращается с бала и пишет: «За всю свою жизнь не видел собрания таких красивых женщин. Перед их красотой невольно опускаешь глаза. С точки зрения француза, она имеет характер благородный и сумрачный, который наводит на мысль не столько о мимолетных радостях живого и веселого волокитства, сколько о счастье, обретаемом в сильных страстях. Я полагаю, что красота — это всегда лишь обещание счастья»[6]. В этом стендалевском presto сразу чувствуется юношеский пыл. Стендаль думает о жизни, и этого ему довольно. Бодлер не может удержаться от мудрствования, он переводит цитату в плоскость искусства и вместо «красоты» говорит о «Прекрасном». Женские прелести уступают место платоническим категориям. Но тут происходит конфликт со «счастьем», которое в эстетических рассуждениях — даже у Канта — никогда не было связано с Прекрасным. Мало того, в переиначенном контексте слово «обещание» обретает эсхатологический оттенок. Что за счастье может сулить Прекрасное? Уж не то ли, которое беспардонно воспевал век Просвещения? Бодлера никогда не влекло на этот путь. Но что тогда понимать под счастьем? Создается впечатление, что «обещание счастья» — это намек на идеальную жизнь, на то, что подчиняет себе эстетику. Именно в этом утопическом свете, который значительно сильнее у Бодлера, чем у Стендаля, «обещание счастья» всплывет почти столетие спустя в трактате «Minima moralia» Адорно.
С появлением фотографии мир ринулся бессчетно воспроизводить свое изображение, повинуясь той самой concupiscentia oculorum[7], носители которой распознавали друг друга мгновенно, как умеют лишь извращенцы. «Это грех нашего поколения, — заметил Готье. — Никогда взгляд еще не был так жаден»>{15}. Ему вторит Бодлер: «С юности мои глаза, влюбленные в живопись и графику, не ведали насыщения, и, думается, скорее рухнет мир, impavidum ferient[8], чем я стану иконоборцем»>{16}. Однако малочисленное племя иконопочитателей все-таки сформировалось. Они исследовали извилистые лабиринты больших городов, отдаваясь «наслажденью хаосом и необъятностью»>{17} призрачных титанов.
Визуальный голод, утоляемый осмотром и перевариванием бесчисленных произведений искусства, был мощным стимулом для прозы Бодлера. Он оттачивал свое перо в «борьбе против пластических изображений»>{18}, хотя это была скорее гипнэротомахия, «любовное борение во сне», чем подлинная война. Бодлер не собирался изобретать на пустом месте, напротив, он стремился переработать уже существовавший материал, видение, являвшееся ему то в галерее, то в книге, то просто на улице, будто бы литература была для него прежде всего способом формального перехода из одного регистра в другой. Так рождались некоторые из его совершеннейших образов, которые долго смакуешь, забывая о том, что они были простым описанием акварели. «По аллее, расчерченной полосами света и тени, быстро едет карета, где, точно в гондоле, томно полулежат красавицы; они небрежно внимают вкрадчивым любезностям кавалера и лениво отдаются ласке встречного ветерка»[9]. Едва ль кому-либо удастся многое разглядеть в Бодлере, не разделяя, хотя бы отчасти, его преданности зрительным образам. Первой в списке признаний, которые можно понимать буквально, со всеми вытекающими последствиями, несомненно, будет строка из «Моего обнаженного сердца»: «Восславить культ образов (моя великая, единственная, изначальная страсть)»[10].
Писательское вдохновение приходит, когда автор начинает ощущать неодолимый магнетизм, незаметное смещение окружающего пространства хотя бы на несколько градусов. Абсолютно все на его пути — афишу, вывеску, газетный заголовок, слова, услышанные в кафе или во сне, — он складывает в специально отведенное для этого надежное место для дальнейшей переработки. Именно таким было действие Салонов: всякий раз они давали выход неповторимым нотам поэзии и прозы Бодлера. Вот он осматривает Выставку 1859 года и доходит до живописи на военные темы. Удручающее зрелище. «Этот жанр живописи, если вдуматься, — сплошная фальшь либо ничтожество»>{19}. Но хроникер, не имеющий права пренебрегать своими обязанностями, все же находит мотив для восхищения: полотно Табара, где мундиры алеют, как маки «на фоне зеленого океана»>{20}. Это сцена Крымской войны.
Внезапно, подобно резвому скакуну, Бодлер сбивается с заданного курса, влекомый воображением: «Чем непринужденнее и щедрее фантазия, тем более она опасна. Опасна, как стихотворение в прозе, как роман, как любовь к проститутке, скоро вырождающаяся в причуду или разврат; словом, опасна, как всякая неограниченная свобода. И в то же время фантазия безбрежна, как вселенная, помноженная на число всех своих мыслящих обитателей. Стоит кому-то задержать на чем-либо взгляд — и фантазия уже в действии, но если человек лишен одухотворенности, которая озаряет магическим лучом вещи, погруженные в первозданный мрак, тогда фантазия становится отвратительным излишеством, опошленным первой попавшейся рукой. Здесь уже нет места аналогиям (они разве что случайны), есть лишь сумбур и диссонансы, режущая глаз пестрота заросшего сорняками поля»

В книге Роберто Калассо (род. 1941), итальянского прозаика и переводчика, одного из зачинателей и многолетнего директора известного миланского издательства Adelphi, собраны эссе об издательском деле – особом искусстве, достигшем расцвета в XX веке, а ныне находящемся под угрозой исчезновения. Автор делится размышлениями о сущности и судьбе этого искусства, вспоминает о выдающихся издателях, с которыми ему довелось быть знакомым, рассказывает о пути своего издательства – одного из ярчайших в Европе последних пятидесяти лет.
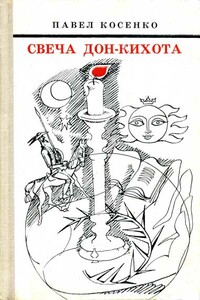
«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.
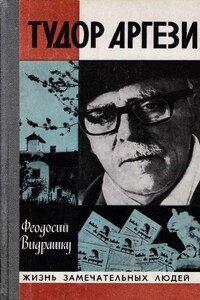
21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.
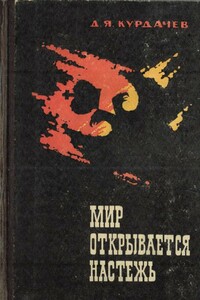
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.