Sola Fide - только верою - [45]
Юлиан верно и метко формулировал основную мысль того течения, выразителем которого он являлся. Это говорит и Гарнак. «В приведенном положении Юлиана собственно ключ ко всему строю его мыслей: свободно созданный человек противостоит в своей собственной сфере совершенно самостоятельно Богу. Бог является только впоследствии (при суде)». Но Гарнак прав только постолько, посколько в положении Юлиана он верно увидел ключ к пелагианской системе. Но никак нельзя согласиться с тем, что пелагиане хотели освободиться, т. е. удалиться от Бога. По-моему, это совершенно ненужное искажение всего их учения. Гораздо вернее, когда Гарнак, вместе со всеми прочими историками, и протестантскими и католическими, говорит о рационализме пелагианцев. Но ведь это совсем не то, рационализм отнюдь не исключает религиозности. Можно верить в Бога, можно любить Бога и вместе с тем думать, что Бог открыл нам в разуме высшие истины. Даже больше того — естественнее всего человеку любить и чтить того Бога, который открылся ему в разуме — ибо сокровенное не привлекает, а пугает людей.
И я тут же могу спросить Гарнака и его единомышленников: пусть ответят, положа руку на сердце — чувствуют ли они готовность ввериться тайному и неизведанному. Мы уже помним, что Гарнак уверенно говорил: нельзя безнаказанно пренебрегать здравым смыслом. Мы знаем, что с Гарнаком вместе то же утверждал и Ренан. И даже католичество, открыто проповедующее возможность чудесного, не меньше боится иррационального, чем самые обыкновенные позитивисты. Оно предает анафеме тех, кто решился признать, что вера не мирится с разумом. Вера знает больше, чем разум, она сверхрациональна, но не антирациональ- на. Это догмат не только католичества, это догмат почти общечеловеческий. Может быть, даже ограничивающее «почти» можно было бы выпустить. Т. е., я хочу сказать, что даже те редкие люди, которые отваживаются в самом деле отвергать ratio, способны на такое дерзновение только в редкие минуты исключительного душевного подъема. И из своих запредельных экскурсий в область непостижимого они обыкновенно почти ничего не приносят с собой для обыкновенного существования. Они помнят, что были где-то, где всё совсем по иному устроено, чем в нашей будничной жизни. Но они не могут ни другим, ни даже себе ясно и отчетливо рассказать, что видели и чувствовали они там в ином бытии. Правда, редко кто в этом признается. Редко кто будет иметь мужество, потому что это «иное» постигаемое им на мгновения и в момент постижения оцениваемое, как высшее, единственное в своем роде — не обладает теми свойствами, которые давали бы возможность фиксировать его, постоянно держать в руках и импонировать им остальным людям; мало людей способны верить тому, что появляется и исчезает. Все привыкли думать, что ценность всего ценного прежде всего в его постоянной нужности и годности. И даже в обще-нужности, в обще-годности. Что не нужно всем и всегда, что не встречает общего признания и сочувствия, то уже этим самым признается «субъективным», т. е. второсортным. А, если это субъективное не имеет постоянной власти даже и над тем, кому оно открывалось — разве можно в нем видеть не то, что высшую ценность, а вообще хоть какую-нибудь ценность? Разве не вернее отнести его, по этому именно признаку случайности и непостоянства, к категории призрачного? И, стало быть, пренебречь им? Когда люди останавливаются пред такого рода дилеммой, они почти не колеблются. Они предпочитают лучше исказить, изуродовать до неузнаваемости свои откровения, чем отказаться от права вделать их в ту рамку, которая, по общим условиям человеческого восприятия, является conditio sine qua non достоинства и не то, что ценности, а даже действительности душевных видений. Гарнак с католиками, с их критикой пелагианизма, как неудачной попытки внести в религию рационалистический элемент, могли бы вызвать упрек в недобросовестности — если бы можно было на них возложить ответственность за их критику. Но на самом деле — их личной вины тут нет. Их устами говорит бесконечная тысячелетняя традиция. Так было — так, верно, всегда будет. Разум останется господином над людьми — ибо, сколько бы люди против него ни возмущались, они без него, как без воздуха, существовать не могут. Католицизм отверг пелагианство — но католичество живетидеями Пелагия. Гарнак восторгается бл. Августином и Лютером, но боится больше всего на свете оскорбить здравый смысл. Сохранился в сочинениях бл. Августина отрывок из lettre de condoléance Пелагия к вдове Ливании. Точно ли письмо принадлежит Пелагию или нет, неизвестно, но оно чрезвычайно характерно и еще поучительнее отношение к нему Гарнака. Пелагий пишет: «Ille ad deum digne elevat manus, ille orationem bona conscientia effundit qui potest dicere, tu nosti, domine, quam sanctae et innocentes et mundae sunt ab omni molestia et imquitate et rapina quas ad te extendo manus, quemadmodum justa et munda labia et ab omni mendacio libera, quibus offero tibi deprecationem, ut mihi miserearis»[105] (Harnack, III, 175). T. е., только тот молится по настоящему, кто приготовил себе возможность, обращаясь к Богу, сказать, что он не делал несправедливого, ни дурного, не грабил, не лгал сознательно. Приводя это место, Гарнак замечает: фарисей и мытарь в одном лице.
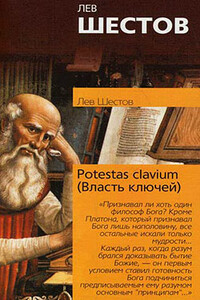
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
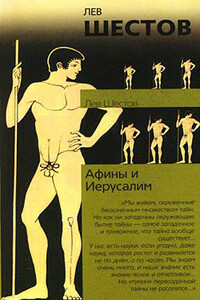
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.
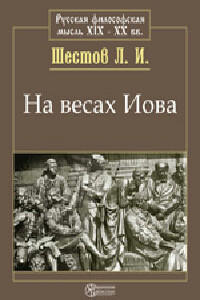
Первая публикация — Изд-во "Современные записки", Париж, 1929. Печатается по изданию: YMCA-PRESS, Париж, 1975."Преодоление самоочевидностей" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 8, 1921 г., № 9, 1922 г.). "Дерзновения и покорности" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 13, 1922 г., № 15, 1923 г.). "Сыновья и пасынки времени" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 25, 1925 г.). "Гефсиманская ночь" было опубликовано в журнале "Современные записки" (№ 19, 1924 г.)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.