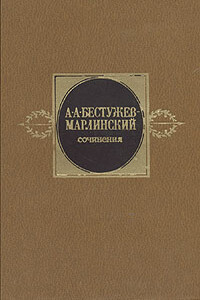— Пора, — сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды обратившись против солнца и за каждым разом повторяя призвание злого духа. — Явись мне, искуситель рода человеческого, — восклицал он, — стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой;[79] я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой, за страшную, за ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного; как этот череп, попираю ногами все человеческое; как этот пояс, разрываю связь с родством… Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг… Явись, явись!
Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью; по ветер палил его лицо, словно дыхание ада. Снова все тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса; он ближе и ближе с шорохом ветвей… Взор и слух призывателя настороже, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; по вот двоится огонь — и щелкание зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши, и, наконец, бешенство овладело им.
— Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха. Ты кажешься только детям и старухам, смущаешь только мирных отшельников, беседуешь с одними полоумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора, что рано или поздно я твой? Нет, нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу; в ней довольно силы, чтобы, назло тебе, я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. Небо и ад меня отринули!
В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии, и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.
IV
Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но оп гордо приподнял голову, и, при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголя, со времен самозванца еще, носили тогда польское и венгерское одеяние.
— Безумец ты, Владимир, — говорил он ему сквозь смех, — неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно, приятель, поздно. Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь, — ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду?
— Так, Хворостинин, — я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мною; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу удружить недругам своим адом! У меня есть сила в теле и месть в душе; на свете есть еще огонь и железо.
— Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и безземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой качели.
— Кто противостанет мне? Что меня остановит?
— Каждая пуля. Полно, князь, мерять силы своим гневом. Будь ты сам Полкан-богатырь, но горсть пороху — и ты прах.
— Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым; тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи, друзья. Они станут за меня…
— Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего к тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись, — и когда я выходил из Переславля, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь, это не правда?
— Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..
— Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша[80] перед Херувимскою. Однако же мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? Как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега. Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто светопреставленье. Едем, Владимир, кони за лесом…