Сочинения - [35]
Иван Ал<ексеевич> человек довольно примечательный. Это русский человек во всем смысле слова. Ему лет под пятьдесят; он извощик с пятнадцати. Человек с светлой головой, но которого жизнь была всегда ограничена извозом: зато я не встречал еще такого гумориста. Этот человек все видел, все понял, что попадалось ему на большой дороге, и ты не удивишь его ничем; он сейчас отвечает тебе двустишьем собственной работы, и, признаюсь, я часто любовался, слушая его; он никогда не бывает весел, как другие мужики; его взгляд на вещи довольно печальный, но зато трудно и обмануть его: он отлично понимает свою бедную жизнь. До самой Черниговской губернии его везде встречают с каким-то особенным уважением и, в самом деле, он в кругу своем всех умнее; хозяйки наперерыв спешат угостить его, мужья послушать Ивана Алексеевича, тогда как он говорит очень мало. Его иные остроты так новы, так оригинальны, что умираешь со смеху. Я из них помню, по крайней мере, сотню; но большая часть их не отличается строгою нравственностью, как мир, с которого они были взяты, потому тебе, я думаю, не понравятся, — и я сам не хочу их повторять. Но уверяю тебя: многие из них Пушкин не постыдился бы признать за свои, — и всякая его острота — самая беспощадная эпиграммика и вместе самая горькая истина. В заключение он любит выпить, — но только не пьяница, большой охотник до чаю, и когда смеется, то, при всей живой игре мускулов в его лице, его смех едва слышен, точно как у охотника в Могиканах.
Из кибитки, с помощью рогож, он сделал для меня нечто вроде дилижанса — вот таким образом: <…>, откуда я почти ничего не видел во всю дорогу, но что было покойно. Не много я могу тебе рассказать про мою печальную дорогу. Правда, я многое передумал, — передумал обо всем, что только удалось узнать мне прежде, — обо всем, что ждет впереди. Нечего сказать, времени было-таки достаточное количество. Но кое-что могу припомнить.
Я выехал из Москвы в полночь, и до первой станции весь перезяб с головы до ног; потому что ночь была чертовски холодна, а со мною не было ни лоскута теплого. И располошило ж меня в прах, так что к первой станции я был уже просто дрянь, помои. Я не помню названия этой деревушки; но местоположение ее необыкновенно живописно. Мы остановились, к величайшему моему удовольствию, рано: речка в зеленых тихих берегах и поля по отлогим холмам едва проснулись и дымились туманом; в воздухе тишина и прохлада, только жаворонки пели без умолку и вдали тянулся куда-то лес с темною зеленью, ну, если хочешь, темно-зеленой. Я долго смотрел на эту картину; она была мне понятна; но я не сочувствовал ей так, как бывало прежде. Оттого ли это, что я был не совсем здоров, или уж устарел, охладел к подобным явлениям, — не знаю.
На другой день утром часов в шесть мы остановились в Тарутине. Напившись чаю в сквернейшем на земле трактире, я был в хорошем, только немного раздражительном состоянии духа. Представь себе; это огромное село, когда-то принадлежавшее помещику, кажется, Воронцову, но теперь свободное — и вот тому причина: здесь была тарутинская битва — одно из жарких сражений с Наполеоном — и ты, верно, хорошо его знаешь. Я проехал его утром. Тишина ненарушимая! И на обоих берегах речки, пересекающей деревню, где русские так долго и крепко отстаивали родину и где Наполеон развивал свои колонны, теперь пусто и тихо — какая-то только старуха полоскала холсты с правого берега. Но прежнее событие живо пронеслось предо мною: мне казалось, я видел его в толпе маршалов, я ужасно любил его измлада — это самый драматический характер в истории.
В память тарутинской битвы помещик отпустил на волю все село — несколько сот душ, — и теперь все они свободные хлебопашцы и, слышно, живут славно. За деревней с юга поставлен памятник. Ни один из памятников, виденных мною доселе, не производил на меня такого сильного впечатления — ни на один не засматривался я так долго. Быть может, отчасти, это было следствием настроенности моей души. Прекрасный столб на высокой насыпи с одноглавым орлом. Ты читаешь надпись, что здесь русские отстояли Россию под предводительством Кутузова, и далее: сей памятник сооружен крестьянами села Тарутина в память свободы, полученной ими от графа Воронцова, — кажется так. Долго, долго я думал об нем! Только такого рода памятники люблю я.
Я долго думал о судьбе России; когда-то я только ею бредил, и любовь к родине была одним господствующим чувством. Но это было давно; другие интересы вошли в мою жизнь; и я уж думал, что я не могу более любить ее по-прежнему. Но здесь опять все воскресло — все. Стыдно и смешно сказать, а я почти плакал, как дурак. Вот что я думал…
Через неделю пишу к тебе. Не успел тогда кончить к отправить письма: ко мне ввалились г. г. учителя, мои товарищи по службе, и просидели у меня до самого обеда, т. е. до 12-ти часов, время, в которое все порядочные люди здесь обедают, потом отдыхают, потом пьют чай, потом идут на проходку (здешнее слово), т. е. на прогулку, потом ужинают в 8 или 9 часов, потом спят. И день весь — жизнь убийственная. Но продолжаю письмо.

Лидия Владимировна Савельева (1937–2021) – прапраправнучка Александра Сергеевича Пушкина, доктор филологических наук. В мемуарах она рассказывает о детстве и взрослении на Украине, куда семья переехала в 1939-м, о студенческих годах, проведенных в Ленинградском университете. Вспоминая оккупацию Полтавы немецкими войсками, школьные послевоенные годы или университетские лекции знаменитых ученых, Лидия Владимировна уделяет много внимания деталям, помогающим читателю лучше понять исторический контекст. Важное место в мемуарах занимает осмысление автором ее личных отношений с классической литературой, а сама судьба Савельевой становится наглядным примером культурной близости и неразрывной связи русского и украинского народов.

В настоящем издании впервые полностью публикуются воспоминания барона Андрея Ивановича Дельвига (1813–1887), инженер-генерала, технического руководителя и организатора строительства многих крупных инженерных сооружений на территории Российской империи. Его воспоминания – это обстоятельный и непредвзятый рассказ о жизни русского общества, в основном столичного и провинциального служилого дворянства, в 1810–1870-х годах. Отечественная война, Заграничный поход, декабрьское восстание 1825 года вошли в жизнь А.
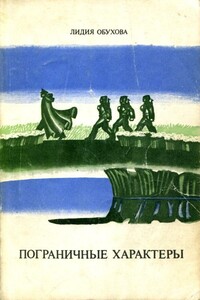
Документальные повести Л. Обуховой многоплановы: это и взволнованный рассказ о героизме советских пограничников, принявших на себя удар гитлеровцев в первый день войны на берегах Западного Буга, реки Прут, и авторские раздумья о природе самого подвига. С особой любовью и теплотой рассказано о молодых воинах границы, кому в наши дни выпала высокая честь стоять на страже рубежей своей Отчизны. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Мой ГУЛАГ» — это книжная серия видеопроекта Музея истории ГУЛАГа. В первую книгу вошли живые свидетельства переживших систему ГУЛАГа и массовые репрессии. Это воспоминания бывших узников советских лагерей (каторжан, узников исправительно-трудовых и особых лагерей), представителей депортированных народов, тех, кто родился в лагере и первые годы жизни провел в детском бараке или после ареста родителей был отправлен в детские дома «особого режима» и всю жизнь прожил с клеймом сына или дочери «врага народа». Видеопроект существует в музее с 2013 года.