Сочинения Державина - [14]
Совсем иной характер имеют жизненная идея и пафос французской нации: это вечно тревожное стремление к идеалу и уравнению с ним действительности. Искусство во Франции всегда было выражением основной стихии ее национальной жизни: в веке отрицания, в XVIII веке, оно было исполнено иронии и сарказма; теперь оно одно исполнено страданиями настоящего и надеждами на будущее. Всегда оно было глубоко национальным, даже во времена псевдоклассицизма, натянутого подражания древним, – и Корнель, Расин, Мольер столько же национальные поэты Франции, сколько Вольтер, Руссо, а теперь Беранже и Жорж Занд.
Англия составляет прямую противоположность и Германии и Франции. Сколько Германия идеальна, столько Англия практически положительна; как велики успехи немцев в философии, так ничтожны попытки англичан в абсолютной науке; у англичан источником всех их исторических событий бывает польза общества. Человек в этом обществе ничего не значит сам по себе, но получает большее или меньшее значение от того, что он имеет, или чем он владеет. Покорение сил природы на службу обществу, победа над материею, пространством и временем, развитие промышленности, как основной общественной стихии, как краеугольного камня здания общества, – вот в чем сила и величие Англии и ее заслуги перед человечеством. Во многом похожая на древний Рим, практическая Англия довершает свое сходство с ним и огромными завоеваниями, причина которых – корыстные расчеты, а результат – распространение цивилизации по всему миру. Но в отношении к искусству, Англия ничего общего с древним Римом не имеет: тевтонское племя, двумя слоями, саксонским и нормандским, легшее на почве ее исторического формирования, и христианство как глубоко вошедший в жизнь ее элемент заронили в национальный дух англичан плодовитые семена поэзии. Но и в поэзии Англия резко отличается от Германии и от Франции. Как в стране по превосходству общественной и практической, в Англии особенно развились драма и роман, недоступные для немцев; от французской же поэзии английская отличается и своей художественностию и своим равнодушием к верно изображаемой ею действительности, без скорби о неразумности и без радости о разумности этой действительности, без порывания подвигнуть ее возвыситься до идеала. Но как Англия есть страна всевозможных противоречий нравственных, то и невозможно подвести явлений ее поэзии под какую-либо определенную точку зрения: так, например, об руку с ее равнодушием к добру и злу действительности идет самый глубокий юмор, а в Байроне Англия имела поэта, который, по пафосу своей поэзии, всего родственнее Франции и всего враждебнее своему отечеству. Правда, Вольтер и Руссо имели сильное влияние на Байрона; но правда и то, что юмор, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличают в нем сына Британии. Вообще, Байрон так же есть намек на будущее Англии, как Шиллер – намек на будущее Германии: оба эти поэта были резкими противоречиями национальному духу своих стран, и в то же время каждый из них мог явиться только в своей стране. Но с Шиллером скоро помирилась его Германия, которую сначала так дико озадачило его явление: Байрон же и умер в непримиримой вражде с своей родиною, и великая нация, в свою очередь, двинулась во сретение только гробу его…
Если в этом очерке национальностей, игравших или играющих первые роли на позорище всемирной истории, и в очерке отношения исторической идеи жизни народов к их поэзии, мы не выразили определительно нашей мысли (чего невозможно было сделать, говоря мимоходом о таком предмете, которого стало бы на огромное, отдельное сочинение), то по крайней мере сделали на него определительный, сколько могли, намек. Прибавим к сказанному, что основная идея национально-исторической жизни народа существует всегда как сумма понятий и правил общества; она дает себя чувствовать даже в самых, повидимому, мелочных обычаях и нравах общества. Так, например, страсть французов к балам, театрам и всякого рода публичным и общественным увеселениям, их природная вежливость и любезность, охота и умение вести легкий и беглый светский разговор, их искусство популяризировать всякое знание, делать доступным, через ясное изложение, всякий предмет, самое непостоянство их мод в одежде и житейских удобствах, – все вытекает из основной идеи их национально-исторической жизни. Англичане суровы, важны и недоступны в обществе; они легче сходятся друг с другом в парламенте, в трибунале, на бирже, чем в салоне, и в последнем они этикетны; их пиры и обеды выражают не светскую, а политически-гражданскую общительность; они преданы семейной жизни, где глава семейства является маленьким деспотом и где основные принципы отзываются маленьким варварством феодальных времен; в светской же жизни англичане этикетны и скучны с достоинством. В общественных нравах их царствуют чопорность, pruderie и самая ограниченная, самая мелкая, стеснительная моральность. Что-то жесткое и грубое есть в их нравах, как необходимый результат вечного торгашества и вечной борьбы промышленного духа с внешними препятствиями. Энергия национального духа англичан, которой они обязаны своим государственным величием, своею всемирной торговлею и своими всемирными завоеваниями и поселениями, трагически выражалась в политических и религиозных переворотах. Отсюда эта мрачность и суровое величие их поэзии; отсюда же происходят и их великие успехи в драматической поэзии: сама история Англии есть ряд трагедий, – и Шекспиру легко могла войти в голову мысль писать трагические хроники Англии: материалы были у него под рукою, – стоило только оживить их духом поэзии. Немец не рожден ни для светской, ни для политически-гражданской общительности: что для француза салон, маскарад, театр, гулянье, бульвар, что для англичанина парламент и биржа, – то для немца университет, ученый съезд, ученый комитет. Отсюда это удивительное множество университетов, существующих целые века; отсюда эта особенность университетских нравов и обычаев, эта противоположность

Настоящая статья Белинского о «Мертвых душах» была напечатана после того, как петербургская и московская критика уже успела высказаться о новом произведении Гоголя. Среди этих высказываний было одно, привлекшее к себе особое внимание Белинского, – брошюра К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или мертвые души». С ее автором Белинский был некогда дружен в бытность свою в Москве. Однако с течением времени их отношения перешли в ожесточенную идейную борьбу. Одним из поводов (хотя отнюдь не причиной) к окончательному разрыву послужила упомянутая брошюра К.

Цикл статей о народной поэзии примыкает к работе «Россия до Петра Великого», в которой, кратко обозревая весь исторический путь России, Белинский утверждал, что залог ее дальнейшего прогресса заключается в смене допетровской «народности» («чего-то неподвижного, раз навсегда установившегося, не идущего вперед») привнесенной Петром I «национальностью» («не только тем, что было и есть, но что будет или может быть»). Тем самым предопределено превосходство стихотворения Пушкина – «произведения национального» – над песней Кирши Данилова – «произведением народным».

Содержание статей о Пушкине шире их названия. Белинский в сущности, дал историю всей русской литературы до Пушкина и показал становление ее художественного реализма. Наряду с раскрытием значения творчества Пушкина Белинский дал блестящие оценки и таким крупнейшим писателям и поэтам допушкинской поры, как Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков. Статьи о Пушкине – до сих пор непревзойденный образец сочетания исторической и эстетической критики.

«Речь о критике» является едва ли не самой блестящей теоретической статьей Белинского начала 40-х годов. Она – наглядное свидетельство тех серьезных сдвигов, которые произошли в философском и эстетическом развитии критика. В самом ее начале Белинский подчеркивает мысль, неоднократно высказывавшуюся им прежде: «В критике нашего времени более чем в чем-нибудь другом выразился дух времени». Но в комментируемой статье уже по-новому объясняются причины этого явления.

«…Вот уже четвертый альманах издает г. Владиславлев и делает этим четвертый подарок любителям легкого чтения и красивых изданий. На этот раз его альманах превзошел, как говорится, самого себя и изящностию своей наружности, роскошью приложений, и замечательностию содержания. По стихотворной части, его украсили произведения Пушкина, князя Вяземского, гр. Р-ной, Языкова, Кольцова, Подолинского и других…».

«Сперва в «Пчеле», а потом в «Московских ведомостях» прочли мы приятное известие, что перевод Гнедича «Илиады» издается вновь. И как издается – в маленьком формате, в 16-ю долю, со всею типографическою роскошью, и будет продаваться по самой умеренной цене – по 6 рублей экземпляр! Честь и слава г. Лисенкову, петербургскому книгопродавцу!…».

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
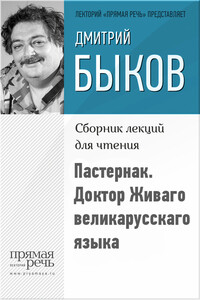
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

