Собрание сочинений. Том 6. Индийские рассказы. История Гедсбая. Самая удивительная повесть в мире и другие рассказы - [5]
— А сердце у меня на минуту перестало биться от восторга, — говорила Амира.
Потом Тота привлек животных к участию в своих занятиях — телят, маленькую серую белку и, в особенности, Миан Митту, попугая, которого больно тянул за хвост. Миан Митту кричал, пока не подходили Амира или Хольден.
— О негодник! Дитя насилия! Так-то ты обращаешься со своим братом на крыше! Тобах, тобах! Фуй, фуй. Но я знаю чары, чтобы сделать тебя таким же мудрым, как Сулейман и Афлатун.[3] Смотри, — сказала Амира. Она вынула из вышитого мешка пригоршню миндаля. — Смотри! Считаем до семи! Во имя Божие!..
Она посадила Миан Митту, очень рассерженного и нахохлившегося, на клетку и, усевшись между ребенком и птицей, разгрызла и очистила миндалину менее белую, чем ее зубы.
— Это истинные чары, жизнь моя; не смейся. Смотри: я даю одну половину попугаю, а другую Тота. — Миан Митту осторожно взял клювом свою часть с губ Амиры; другую она с поцелуями вложила в рот ребенку, который медленно съел миндалину, смотря изумленными глазами. — Так я буду делать в продолжение семи дней, и, без сомнения, он будет смелым, красноречивым и мудрым. Эй, Тота, кем ты будешь, когда станешь мужчиной, а я буду седая?
Тота подобрал свои ножки с очаровательными ямочками. Он мог ползать, но не желал тратить весну своей юности на бесполезные разговоры. Ему хотелось ущипнуть Миан Митту за хвост.
Когда он подрос и удостоился чести надеть серебряный пояс, который вместе с волшебным заклинанием, выгравированным на серебре и висевшим у него на шее, составлял большую часть его одеяния, он, спотыкаясь, отправился в опасное путешествие по саду к Пир Хану и предложил ему все свои драгоценности взамен езды на лошади Хольдена, пока мать его матери болтала на веранде с бродячими торговцами. Пир Хан заплакал, поставил неопытные ноги на свою седую голову в знак преданности и принес храброго искателя приключений в объятия его матери, клянясь, что Тота будет вождем людей раньше, чем у него вырастет борода.
В один жаркий вечер он сидел на крыше между отцом и матерью и смотрел на бесконечную войну между воздушными змеями, которых пускали городские мальчики. Он попросил, чтобы ему дали также змея и чтобы Пир Хан пускал его, потому что он боялся иметь дело с предметами, размеры которых были больше его самого. Когда Хольден назвал его франтом, он встал и медленно произнес в защиту своей только что осознанной индивидуальности:
— Я не франт, а мужчина.
Этот протест чуть было не заставил Хольдена задохнуться от смеха, и он решил серьезно подумать о будущем Тота. Ему не пришлось тревожиться об этом. Эта восхитительная жизнь была слишком хороша, чтобы продолжаться. Поэтому она была отнята, как многое отымается в Индии, внезапно и без предупреждения. Маленький господин, как называл его Пир Хан, стал грустен и начал жаловаться на боли — он, никогда не имевший понятия о боли. Амира, обезумевшая от страха, не смыкала глаз у его постели всю ночь, а на рассвете второго дня жизнь его была отнята лихорадкой — обычной осенней лихорадкой. Казалось невозможным, чтобы он мог умереть, и сначала ни Амира, ни Хольден не верили, что на кровати лежит маленький труп. Потом Амира стала биться головой о стену и бросилась бы в водоем в саду, если бы Хольден силой не удержал ее.
Милость была ниспослана Хольдену. Днем он приехал в свою канцелярию и нашел необычайно большую корреспонденцию, требовавшую сосредоточенного внимания и большой работы. Впрочем, он не сознавал этой милости богов.
Первое ощущение при ранении пулей кажется сильным щипком. Пострадавшее тело посылает свой протест душе только через десять или пятнадцать секунд.
Хольден так же медленно осознал свое горе, как раньше счастье, и испытывал ту же властную необходимость скрывать всякое проявление его. Вначале он чувствовал только, что была какая-то утрата и что Амира нуждается в утешении, когда сидит, опустив голову на колени, вздрагивая всякий раз, как Миан Митту кричит с крыши: «Тота! Тота! Тота!» Впоследствии все в окружавшем его мире и в повседневной жизни словно поднялось на него, чтобы причинять ему боль. Ему казалось оскорблением, что любой из детей, стоявших вечером вокруг оркестра, жив и весел, тогда как его ребенок лежит мертвый. Еще больнее бывало ему, когда кто-нибудь из них дотрагивался до него, а рассказы нежных отцов о последних подвигах их детей уязвляли его до глубины души. Он не мог рассказывать о своем горе. У него не было ни помощи, ни утешения, ни сочувствия; а в конце каждого тяжелого дня Амира заставляла его проходить через тот ад делаемых себе упреков, на который осуждены те, кто потерял ребенка и кто верит, что, если бы было немного, хоть немного больше заботливости, он мог бы быть спасен.
— Может быть, — говорила Амира, — я не обращала достаточно внимания на него. Так ли это? Солнце было на крыше в тот день, когда он так долго играл один, а я — аи! — заплетала волосы; может быть, это солнце вызвало лихорадку. Если бы я уберегла его от солнца, он мог бы жить. Но, жизнь моя, скажи, что я невиновна! Ты знаешь, что я любила его, как мою жизнь. Скажи, что на мне нет вины или я умру… я умру.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
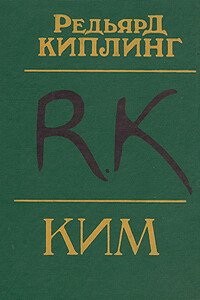
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
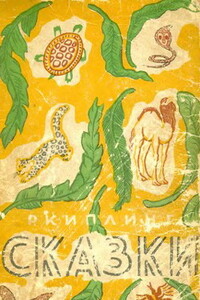
Сказка Р. Киплинга в переводе К. И. Чуковского. Стихи в переводе С. Я. Маршака. Рисунки В. Дувидова.
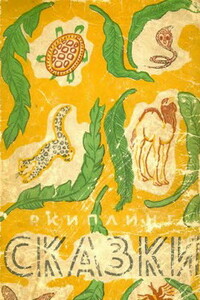
Сказка Р. Киплинга о том, откуда взялись броненосцы в переводе К. И. Чуковского. Стихи в переводе С. Я. Маршака. Рисунки В. Дувидова.
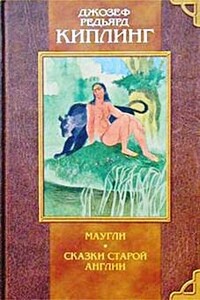
В сборник включены лучшие произведения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга, повествующие о далёких экзотических странах и легендах из рыцарских времён, в которых оживает старая добрая Англия.
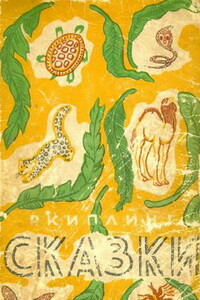
Сказка Р. Киплинга в переводе К. И. Чуковского. Стихи в переводе С. Я. Маршака. Рисунки В. Дувидова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
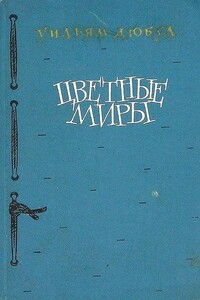
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.
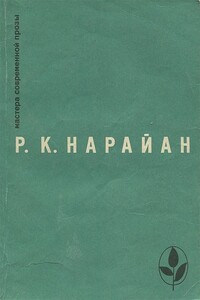
В книге собраны статьи, эссе и художественная проза национального писателя Индии Нарайана. Произведения Нарайана поражают своеобразным сочетанием историчности и современности, глубиной художественного перевоплощения.В романе «Продавец сладостей» с присущим писателю юмором показаны застойный мир индийской провинции и неоправданное прожектерство тех, кто видит спасение Индии в безоглядной «американизации». СОДЕРЖАНИЕ: _____________Н. Демурова. ПредисловиеПРОДАВЕЦ СЛАДОСТЕЙ (роман, перевод Н.

В тринадцатом томе собрания сочинений Матери с точки зрения интегральной Йоги Шри Ауробиндо рассматриваются фундаментальные вопросы воспитания, обучения, образования человеческой личности в наиболее важных областях ее развития. Много внимания уделяется также самым разнообразным особенностям роста и формирования личности детей и подростков. Книга будет полезна и всем, кто самостоятельно занимается совершенствованием своего существа. Характерной чертой ряда основных статей книги является отсутствие специальной терминологии Йоги, что делает их содержание доступным для всех интересующихся педагогической тематикой.

В повести «О мышах и людях» Стейнбек изобразил попытку отдельного человека осуществить свою мечту. Крестный путь двух бродяг, колесящих по охваченному Великой депрессией американскому Югу и нашедших пристанище на богатой ферме, где их появлению суждено стать толчком для жестокой истории любви, убийства и страшной, безжалостной мести… Читательский успех повести превзошел все ожидания. Крушение мечты Джорджа и Ленни о собственной небольшой ферме отозвалось в сердцах сотен тысяч простых людей и вызвало к жизни десятки критических статей.Собрание сочинений в шести томах.
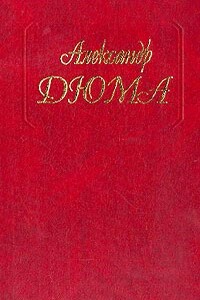
Роман Дюма «Робин Гуд» — это детище его фантазии, порожденное английскими народными балладами, а не историческими сочинениями. Робин Гуд — персонаж легенды, а не истории.

Самобытный талант русского прозаика Виктора Астафьева мощно и величественно звучит в одном из самых значительных его произведений — повествовании в рассказах «Царь-рыба». Эта книга, подвергавшаяся в советское время жестокой цензуре и критике, принесла автору всенародное признание и мировую известность.Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 6. «Офсет». Красноярск. 1997.